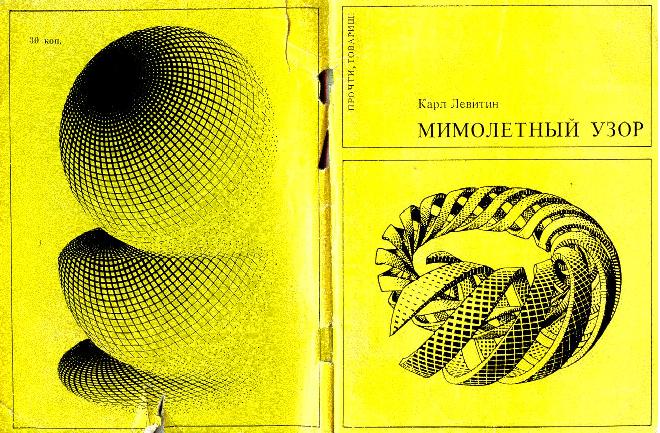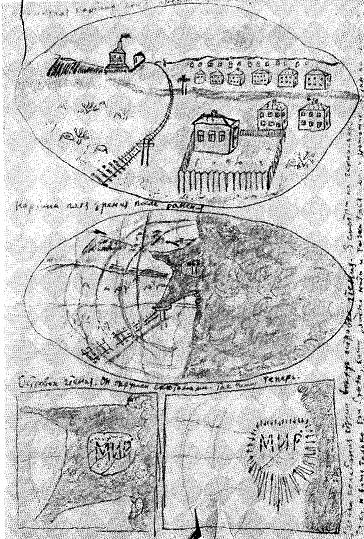|
ПРОЧТИ, ТОВАРИЩ! Карл Левитин МИМОЛЕТНЫЙ УЗОР
ИЗДАТЕЛЬСТВО “ЗНАНИЕ” Москва 1978
61(09) Л36 СОДЕРЖАНИЕ 1. Смущение мысли ...3 2. Дом души . . 15 3. Глубокие корни . . 36 4. Всегда полный значенья ...55
Карл Ефимович ЛЕВИТИН МИМОЛЕТНЫЙ УЗОР Зав. редакцией научно-художественной литературы М. Новиков. Редактор К. Томилина. Мл. Редактор В. Саморига. Художник Ю.Максимов. Худож.редактор Л.Морозова. Техн. редактор Т. Луговская. Корректор Л. Соколова. ИБ № 1290 А 03065. Индекс заказа 87715. Сдано в набор 10/XI-77 г. Подпи-сано к печати 18/1-78 г. Формат бумаги 70Х1087з2. Бумага ти-пографская № 3, Бум. л. ,25. Печ. л, 2,5. Усл. печ л. 3,5. Уч.-изд. л. 4,76. Тираж 100 000 экз. Издательство “Знание”. 101835, Москва, Центр, проезд Серова, д. 4. Заказ 1953. Типо-графия Всесоюзного общества “Знание”. Москва, Центр, Новая пл., д. 3/4. Цена 30 коп. Левитин К. Е. Л36 Мимолетный узор. М., “Знание”, 1978. 80 с. (Прочти, товарищ!) Тема книги — изучение человеческого мозга, его устройства и работы. Автор рассказывает об одном из самых продуктивных научных направлений в этой области. Речь идет о нейропсихологии — науке, родившейся у нас в стране, признанной во всем мире и успешно развиваемой в лабораториях Института нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко и психологического факультета МГУ, о научной школе, которую до последних дней возглавлял профессор А. Р. Лурия. Книга рассчитана на самый широкий круг читателей. 50102-031 Л _____________ 38—78 61(09) 073(02)—78 (С) Издательство “Знание”, 1978 г.
Люди встречали меня с радостью и провожали с надеждой. Мое |облачение, весь вид мой сулили им избавление от страданий. Я подносил к устам их сверкающий цилиндр, и они рассказывали мне о своих горестях. И все беды их уходили по гибкому, как змея, шнуру в сложный электронный прибор, висевший у меня на плече. Я же смело смотрел в очи страждущим и улыбался, даруя им бодрость и веру в скорое исцеление. Простите мне, бурденковские коридоры, что все было именно так. Я шел вслед за профессором Лурия, и кто мог догадаться, что белый халат на мне — только камуфляж, прибор с костяными клавишами — подмога одной лишь моей и без того неповрежденной памяти, а блестящий цилиндр в руке — всего-навсего репортерский микрофон и держит его, казнясь своим бессилием и пытаясь во что бы то ни стало его скрыть, беспомощный человек, потрясенный и растерянный... Мы шли вдоль длинных больничных коридоров, и каждая палата рассказывала нам свою историю — и все они назывались историями болезни. ...Эта девушка еще сегодня утром была красивой и молодой. Сейчас у нее осталась лишь ее молодость. Плетью висит левая рука, недвижна и левая нога, но прежде всего видишь ее лицо — болезненно перекошенное, с высоко поднятым углом рта. Ритуальное “на что жалуетесь?” режет слух сильнее обычного. На что жаловаться этой девушке, которую так не пощадила судьба? Жизнь ей кажется оплошной мукой и бессмыслицей, и тысячу раз проклянет она ту руку, что оперировала ее несколько часов тому назад... Но что это?1 “Спасибо, ни на что, со мной все в порядке,— пробирается сквозь микрофон слабый голос, — и память, и самочувствие... да, и руки, и ноги, все хорошо. Что же все-таки беспокоит? Да вот лежать надоело... Меня скоро выпишут домой? Мне на лекции надо”. — Обширная опухоль, лобные доли пришлось удалить почти полностью. Лобные больные — единственно счастливые больные, — говорит мне Александр Романович в коридоре, и мы продолжаем свой путь, ...Немолодой мужчина смотрит на нас доброжелательно, ободряюще, как на робких посетителей, пришедших с легко выполнимом просьбой. — Я слушаю, — говорит он, — в чем ваше дело? —-Скажите, пожалуйста, сколько сейчас времени?—спрашивает Лурия, глядя на свои часы. — Думаю, часов пять, — если вас это интересует. — Почему вы так думаете? — Да вот вы все торопитесь куда-то, конец работы, очевидно. — Торопимся? — вежливо удивляется Лурия. — Вот как? Куда же, как вы полагаете? — К главному конструктору, должно быть, назначена планер“а по новому изделию, — отвечает наш собеседник. “Речь полностью сохранна, фонематический слух не нарушен, повторение слов и фраз безукоризненное, все... интеллектуальные процессы удовлетворительны... При этом полностью дезориентирован в месте и времени, находясь в клинике, полагает, что работает в Подольске в своей прежней должности... рационализирует, компенсируя сохранной логикой грубые нарушения эмоциональной сферы... кривая памяти — очень низкая, с истощением: 4—6—6-— 6—5—4—3. Оценка: вся картина характерна для медио-базального поражения передних отделов мозга с явным вовлечением глубинных структур”). Лурия долго и тщательно исследует больного, пока я листаю историю болезни. Легко отвечает на сложные вопросы бывший главный инженер большого предприятия; с некоторым затруднением складывает и вычитает он двузначные числа; трудно приходится, если надо пересказать коротенькую историю после того, как вслед за ней была прочитана еще одна, столь же незамысловатая; и уж совсем не под силу ему простучать пальцем по столу те простые ритмы, что отбивает Лурия; С достоинством, как и подобает руководителю, сидит перед нами в своем воображаемом служебном кабинете пожилой человек, сортируя по группам детские картинки, и зачем-то запахивает то и дело свой теплый синий халат, отчего еще больше становятся видны его голые ноги, бледные, все в венозных прожилках. — Это один из самых необыкновенных больных, — говорит мне в коридоре Лурия. Раз за разом повторяется тщательно продуманный ритуал обследования — такой простой с виду, такой отточено экономный и всеохватывающий по сути. Невинные вопросы, детские задачки, пустяковые задания чередуются в строгой, тщательно соблюдаемой последовательности. “Поднимите брови, нахмурьте их. Пощелкайте языком, поцокайте, посвистите. Покажите, как целуются. Как плюются. На один стук поднимите правую руку, на два — левую. Погрозите, поманите, помешайте чай. Закройте глаза, протяните руку, сожмите в кулак, ответьте: что в него положено — ключ, расческа или карандаш? Повторите: “би-6а-бо, бо-би-ба, ба-би-бо”. Теперь: “сшит колпак не по-колпаковски, надо его переколпаковать, но никто его не переколпакует”. Покажите ключом карандаш. От 31 отнимите 17. Назовите, не задумываясь, семь красных предметов. Теперь— семь начинающихся с буквы “т”. Постучите два раза по два удара, три раза — по три...” И так далее, раз за разом, с каждым новым пациентом одно и то же, словно загадочная мистерия, набор бессмысленных действий к поступков, нелепых вопросов и ответов, чем-то сродни закостеневшей в веках мистике церковных церемоний. Это сравнение действительно приходит в голову — но лишь в первый раз. Лотом, когда смысл происходящего становится хоть немного понятным, белый халат уже ничем не напоминает стихарь. Нет, весь ритуал обследования больного — каждый жест, каждый звук — служит одной лишь цели: десятками различных и до тонкостей отработанных способов проникнуть в тайны нарушенной психики, один за другим прощупать многочисленные закоулки мозга. Такая важная, такая захватывающая задача, что просто не остается места для благолепия и священнодействия. И вся процедура изложена 8 тоненькой брошюрке “Схема нейропсихологического исследования”, издательство МГУ, учебное пособие для студентов, 40 страниц. По году напряженнейшей работы на страницу. ...Стучат ритмы, отбиваемые больными; складываются в стопки картинки; поднимаются правые и левые руки, то сжимая в кулак, то растопыривая пальцы; пересказываются сюжеты; толкуется смысл пословиц; из четырех слов выбирается одно, лишнее по смыслу; рисуются геометрические фигуры; решаются арифметические задачи... Я словно вижу кадры киноленты, снятой в совсем уже сверхсовременном стиле — без внешней логики, без внутренней связи. И становится не по себе от этой жуткой режиссуры, я хочу найти ту нить, что соединяет один абсурд с другим, превращает их в осмысленное целое, объясняет, как рядом с уцелевшей логикой уживаются разрушенные эмоции, как утерянная память сочетается со страстным стремлением ее вернуть, как может разумное существо оставаться абсолютно равнодушным к трагедии своей жизни. Но главное, что хочется мне знать - как, каким озарением проникают здесь, в Институте нейрохирургии имени Бурденко, в потаенные глубины мозга. Как — без рентгена, энцефалографа, вообще как будто безо всякой аппаратуры... ОО Из архива А. Лурии: “Кимовск, 1 февраля 1974 г. Глубокоуважаемый и дорогой Александр Романович! Получил Ваше новогоднее письмо, за что искренне благодарен. Пересылаю три тетради по почте. В нашем городе с некоторых пор нет кожаных тетрадей, и пришлось писать на простых, сшив их по четыре. Но это не беда. Трудно было вспоминать о своем раннем детстве, школьничестве, институтском времени, о войне — в училище, на фронте. От этих воспоминаний после ранения осталась у меня мизерная доля — какая-нибудь тысячная, а, может быть, и меньшая во много раз эта доля...” Спорят журналы, дебатируют газеты, срывают голос на радио и телевидении, до хрипоты идут дискуссии по молодежным клубам— кто он, нынешний герой? есть ли он? нужны ли особые исторические обстоятельства, чтобы он появился, или же достаточно пожара, наводнения и хронического невыполнения квартального плана? Редакции готовы выписать командировки хоть на край света, чтобы рассказать о бурильщике, спасшем вышку от взрыва, или строителе, закрывшем своим телом дыру в плотине. Честь и хвала этим отважным людям, пусть и дальше будут в их жизни подвиги, хотя бы по дюжине на каждого, как у Геракла. Но отчего не спешат корреспонденты в маленький городок Кимовск в восьмидесяти километрах от Тулы? Там живет человек, чья жизнь, любой ее день —это подвиг, и перед каждым из них Геракл склонил бы голову. Я не открываю безвестного героя. Ведущие газеты всего мира, не тая восхищения перед стойкостью духа и мужеством советского офицера Льва Засецкого, познакомили своих читателей с его удивительной судьбой. “Ньюсуик”, “Гардиан”, “Санди телеграф”, “Нью-Йорк Геральд трибюн”, американские, английские, французские, итальянские, даже австралийские издания поместили десятки рецензий на книгу профессора А. Р. Лурия “Потерянный и возвращенный мир”. Александр Романович рассказал в ней об этом своем пациенте, которого он наблюдает вот уже более тридцати лет. Книга вышла на многих языках, и во многих странах нашла благодарных и взволнованных читателей. Мне повезло больше других: я знаком и с ее автором, и с ее героем. ОО Из истории болезни № 3712: “Младший лейтенант Засецкий, 23 лет, получил 2 марта 1943 года пулевое проникающее ранение черепа левой теменно-затылочной области. Ранение сопровождалось длительной потерей сознания и, несмотря на своевременную обработку раны в условиях полевого госпиталя, осложнилось воспалительным процессом, вызвавшим слипчивый процесс в оболочках мозга и выраженные изменения в окружающих тканях мозгового вещества”. ОО Из газеты “Гардиан” от 5 мая 1973 года: “Большинство из нас на его месте остались бы беспомощными инвалидами, Засецкий же решил взять жизнь за горло — подобно Бетховену, но только в еще более драматической ситуации”. Известно, что оба мильтоновских поэтических шедевра, “Потерянный рай” и “Возвращенный рай”, невозможно понять в полной мере, не зная в тонкостях Ветхого и Нового завета. Точно так же “Потерянный и возвращенный мир”, книга, хотя и написанная для самого широкого круга читателей, по-настоящему открыта лишь для тех, кто причастился откровений нейропсихологического учения. Сейчас это просто и доступно: стоит лишь пойти в библиотеку и взять с книжной полки “Основы нейропсихологии”. (Если продолжать сравнение, то эту книгу за ее краткость и афористичность, строгость стиля, поэтичность и фундаментальность я должен был бы назвать “Библией нового учения”.) Но всего каких-нибудь тридцать лет назад никто и не подумал бы даже от врача требовать, чтобы он выполнил невозможное — узнал, что именно стряслось с мозгом больного. Путей к тому не было. Сегодня нейропсихолог, если он обладает достаточным опытом, в течение часа-полутора, проводя внешне несложные тесты, умеет поставить диагноз—в какой именно части мозга больного случилась беда. Но сколько этих частей? Чем они заняты? Как из их совместной работы “-набирается” необходимая функция мозга? Это и есть учение о трех блоках, сердцевина нейропсихологии. Символ ее веры соблазнительно изложить в виде катехизиса, вопросов и ответов — литературной формы популяризации, выдержавшей испытания временем (а иллюстрацией к нему столь же соблазнительно взять гравюру Маурица Корнелиса Эсхера “Три сферы”, помещенную на последней странице обложки этой книги). ОО Из катехизиса нейропсихологии: — Из скольких частей состоит мозг? — Из трех блоков. — Строго ли это деление? — Нет, но работа мозга столь сложна, что такое упрощение допустимо. Можно сказать и так: любой вид психической деятельности обязательно требует, чтобы в работу включились именно эти три функциональных блока, эти три основных аппарата мозга. — Что представляет собой первый блок, где расположен, как его имя? — Он называется “энергетическим блоком” или “блоком регуляции тонуса и бодрствования” и занимает глубинные отделы мозга, сформировавшиеся раньше других. Задача его — принять сигналы возбуждения, приходящие от процессов обмена веществ внутри организма и от органов чувств, улавливающих информацию о событиях, происходящих вне его, затем переработать эти сигналы в вереницу импульсов и постоянно посылать их мозговой коре, потому что без них она “засыпает”. — Чему можно уподобить первый блок? — Источнику энергии, блоку питания любого электронного устройства. — Что случается, если этот блок поврежден? — Нарушается павловский “закон силы”: второстепенные, неважные сигналы не тормозятся, пустяковая мыслишка может заслонить главную идею, мозг теряет избирательность — как приемник, в котором на волну одной станции накладываются сигналы от других. Тонус коры снижается, память истощается. — Как поставить диагноз: “поврежден первый блок”? — Назовите десять слов и просите их повторить. Больной вспомнит четыре. Назовите еще раз. Он вспомнит шесть. Потом — все меньше и меньше: пять, четыре. Кривая памяти с истощением: 4—6—6—6—5—4—3. А нормально: 4—6—8—10—10—10... — Что есть второй блок? где он? зачем он? — Он зовется “блок приема, переработки и хранения информации”, расположен в задних отделах больших полушарий и сам состоит из трех подблоков — зрительного (затылочного), слухового (височного) и общечувствительного (теменного). Строго говоря, сюда входит еще и вестибулярный аппарат. Блок этот имеет иерархическое строение — первичные, вторичные и третичные отделы в каждом из подблоков. Первые дробят воспринимаемый образ мира — слуховой, зрительный, осязательный — на мельчайшие признаки: округлость и угловатость, высоту и громкость, яркость и контрастность. Вторые синтезируют из этих признаков целые образы. Третьи — объединяют информацию, полученную от разных подблоков, то есть от зрения, слуха, обоняния, осязания. — Что будет, если раздражать чем-либо эти отделы? — Разное, в зависимости от того, какой отдел затронут. Первичный вызовет элементарные ощущения — мелькающие световые точки, окрашенные шары, языки пламени, отдельные шумы и тоны. Когда электрод прикоснулся ко вторичным отделам, человек видит сложные законченные зрительные образы, слышит мелодии, отрывки фраз, песен. Третичные же отделы дают сценоподобные галлюцинации — целые картины, полные некоторого смысла, словно отрывки киноленты с четким изображением и ясным звуком. — Остался еще третий блок. Как он связан с информацией, получаемой мозгом? — Никак. — Если действовать на него током, что испытывает человек? — Ничего. — Какова же тогда его роль, где его место и как его имя? — Его роль решающе важна. Имя ему — “блок программирования, регуляции и контроля”. Он расположен в лобных долях мозга, и человек, у которого участок этот нарушен, лишается возможности поэтапно организовать свое поведение, не умеет перейти от одной операции к другой, личность его поэтому распадается, и он сам не осознает этого. — Есть ли способ найти, в каком блоке случилась беда? — Есть. — Каков же он? — Изучать нейропсихологию. Опасения мои были беспочвенны: не существовало причины, мешающей пройти под арку, подняться по наружной лестнице на второй этаж и, оказавшись в маленькой комнате со многими дверьми, найти ту, что ведет на лестничную клетку. Далее — и совсем просто; по ступеням через два марша на третий этаж, дверь в центре, через нее по узкому коридору до конца и налево, а там есть даже вывеска “Лаборатория нейропсихологии”. Умом я понимал, что бояться нечего, но страх, хоть и не должен был, упрямо подавал советы: не пытайся сам найти дорогу, заблудишься, лучше спроси, как пройти. Душа моя не была тверда. Этот путь, одна из многих дорог, проложенных вдоль бурденковских коридо-ров Лурией и его сотрудниками, вызвал классическую болезнь первокурсника медвуза: я находил у себя симптомы именно тех страданий, о которых думал, читал и говорил накануне. ОО Из дневников Л. Засецкого: “Во время прогулок... теряю ориентацию, часто блуждаю у “себя под носом”.... Свой дом никак не найду, возвращаюсь сто раз обратно — запутался совсем, не пойму, куда мне идти и где мой дом: очертания его забыл, даже улицы все позабыл, по каким мне идти домой... Да, вот почти два года, как живу в городе, но почему-то не могу запомнить улицы, проезды даже ближайших мест, по которым я вынужден ходить для прогулок. Хоть город небольшой, можно пройти с того конца на другой за один час, не больше, но построен как-то нескладно, непонятно, неархитектурно. Поэтому я далеко не отходил от двух-трех улиц и всегда хожу по улицам вокруг и около —вблизи Парковой... Ну, а другие улицы, переулки, проезды, которых в Кимовске тоже порядочно, я и не думаю запоминать или вспоминать, раз это дело не держится в моей памяти после ранения... Да, летят месяцы, летят годы, а я все по-прежнему хожу по заколдованному кругу времени и не могу прорвать этот круг, не могу вырваться из него”. ... Видимо, слишком глубоко врезалось в память написанное и выстраданное Засецким: я заметался между дверьми. Но грех, грех подобно впечатлительной дамочке поддаваться настроениям, навеянным пусть даже таким удивительным чтением, как дневник Засецкого, и столь необычным местом, как Институт нейрохирургии имени Бурденко. Сосредоточиться, восстановить в памяти весь путь с улицы до лаборатории, мысленно пройти его до того места, где я сейчас сказался, наметить дорогу дальше! Я хочу это сделать, я могу это сделать — это у Засецкого, а не у меня разрушен тот участок мозга, что умеет свести отдельные наблюдения в целую картину, превратить обозреваемое в обозримое. К работе, третичные отделы коры! Нам надо добраться до двери, за которой Александр Романович Лурия пытается вызволить со страшных кругов болезни еще одного человека. ОО Из архива А. Лурии: “Пенсильванский университет Филадельфия, 19104 Кафедра психологии 381315 Уолнат стрит 13 сентября 1973 г. Профессору А. Р. Лурия Кафедра психологии Московский университет Москва, СССР Дорогой профессор Лурия! Я только что кончил читать Вашу книгу в переводе на английский и необыкновенно тронут ею и благодарен вашему пациенту Засецкому. Документ, которому он посвятил двадцать пять лет необычайно напряженных усилий, совершенно уникален и бесценен. Он дал возможность психологам заглянуть в такие глубины работы мозга и протекания психических процессов, каких они не могли бы достичь и за сотни лет научных исследований. Ваша книга станет настольной для каждого из моих студентов. Я бы очень хотел, чтобы Вы передали мистеру Засецкому это мое мнение о его труде и сказали бы ему от моего имени, что, хотя он, может быть, думает, что смысл его жизни исчез в тот момент, когда пуля вошла в его мозг, но для тысяч психологов и неврологов, которые стремятся постичь тайны мозга, и для всех будущих поколений людей, само существование которых как вида может зависеть от успеха подобных исследований, те кошмары, что ему приходится переносить — драгоценный дар, не имеющий цены. Многие, окажись они на месте мистера Засецкого, и не обладая в той мере, в какой он, чувством человеческого достоинства, совершили бы самоубийство или полностью ушли бы в себя, в свой мир отчаяния. Но, благодаря своей блестящей одаренности и сверхчеловеческому упорству, Засецкий сумел сделать свою жизнь необычайно важной и ценной для всего человечества. Я чрезвычайно счастлив тем, что принадлежу к тому же, что и он виду, населяющему Землю, — виду людей... Хотя немецкая пуля разрушила его мир, он сумел сделать больший вклад в науку, чем все исследования всех неврологов, вместе взятых. Извините меня, что я не могу написать Вам по-русски, и позвольте поблагодарить Вас за то, что Вы сделали написанное Засецким достоянием всего мира. Искренне Ваш Дж. Леви, профессор”. Вновь и вновь листаю я дневники Засецкого, страницу за страницей, на которых встречаются порой простенькие, детские, неумелые рисунки, за любым из которых — необычайной сложности трагедия взрослого, талантливого человека, лишившегося памяти, знаний, способности ориентироваться в пространстве и времени, разучившегося читать и писать, забывшего все слова, даже собственное имя. Но не утратившего человеческого достоинства, мужества, веры, надежды, любви к жизни. Лишь короткие, всего в несколько букв слова удерживает его разрушенная память, и он выбрал из них одно, самое главное, слово “МИР”, и поместил его точно в центре рисунка. Спокойный, мирный пейзаж — домики, забор, церквушка с красным флажком вместо креста, дорога, пеньки, а рядом тот же пейзаж, но как бы разрушенный военным ураганом. “Примерная картина поля зрения до ранения”. “Картина поля зрения после ранения”. “Островок чтения. Он окружен скотомами. Так вижу теперь”. “Словно колебания струны вокруг островка чтения. Я смотрю на чернильную точку и вижу только три буквы, вижу заодно нити и точки тысячами, и дрожащие струны”. Этот лист из дневника Льва Александровича Засецкого, всего один из более, чем трех с половиной тысяч, воспроизведен на третьей странице обложки. Слова эти написаны рукой Засецкого, Не смажь их, ротационная машина. Но пусть не пропадет ни одна черточка и во всех других местах этих рисунков, потому что каждая из них может оказаться концом той нити, что позволит пробраться в глубь лабиринта, именуемого Мозгом. Это не преувеличение, не метафора, на стилистический изыск. Уникальный, единственный случай узнать нечто о работе разрушенного мозга из первых уст—вот что такое эти рисунки. Обычно, если с высшими функциями мозга что-то случается, то и человеческая личность гибнет вместе с потерей памяти и прошлого опыта. И уж никто из психологов не осмеливался мечтать, что такой пациент возьмет на себя титанический, непосильный для большинства здоровых людей труд — тщательно, с малейшими подробностями рассказать о своих ощущениях, год за годом вести утомительные эксперименты над самим собой, .эксперименты, вызывающие страшную головную боль, мучительные приступы, после которых, человек приходит в себя с прокушенным языком, захлебываясь собственной кровью. Ни один врач не отдал бы больного на эту пытку самоистязания, как ни бесценны добытые ею результаты для науки, если бы... если бы эти нечеловеческие усилия не были единственной нитью, связывающей безнадежно искалеченного человека с жизнью, если бы эта отчаянная борьба с наступающим со всех сторон мраком и беспамятством не составляла смысл, суть и содержание всего, что удерживает его на земле. И снова, и снова, умея свести вместе лишь два-три слова, забывая ежесекундно, кто он и чем занят, откладывая на долгие часы бумагу из-за головокружений и невыносимой головной боли, идет в атаку солдат Засецкий, не прекращает своих экспериментов Засецкий-инженер и с поразительной простотой, которая и есть талант, заносит их результаты на бесчисленные страницы толстых тетрадей Засецкий-писатель, Засецкий-психолог. ОО Из дневников Л. Засецкого: “Я вышел в коридор, но, пройдя несколько шагов, вдруг ударился правым плечом и правым лбом о стенку коридора, набив шишку на лбу. Меня взяло зло и удивление: отчего же это я смог удариться вдруг? Отчего же я наткнулся на стену коридора, я же должен был увидеть стену и не столкнуться с ней? Нечаянно я бросил взгляд еще раз по сторонам, на пол, на ноги... и вдруг я вздрогнул и побледнел: я не видел перед собой правой стороны тела, руки, ноги... Куда же они могли исчезнуть? Иногда я сижу и вдруг чувствую, что голова моя со стол величиною, не меньше, как будто... вот во что она превратилась. А руки, ноги и туловище стали малюсенькими... Такое явление я называется коротко— “смущением тела”. “Смущением мысли” коротко назвал бы я то чувство, что вызвало у меня чтение этих дневников. Как же так? Человек не может прочесть написанное только что своей же собственной рукой— и все-таки пишет страницу за страницей? Как это может 6ыть? Я читаю дальше — и вдруг: “...Вдруг ко мне во время занятий подходит профессор, уже знакомый мне своей простотой обращения ко мне и к другим больным, Александр Романович Лурия, и просит меня, чтобы я написал не по буквам, а сразу, не отрывая руки с карандашом от бумаги. И я несколько раз (переспросил, конечно, раза два) повторяю слово “кровь” и, наконец, беру карандаш и быстро пишу слово, и написал слово “кровь”, хотя сам не помнил, что написал, потому что прочесть свое написанное я не мог”. Как родилась эта головоломно простая идея — писать, не думая, не расчленяя слово на буквы? Как может человек не помнить прошлого, но помнить, что он его не помнит? Что за механизмы мозга разрушила фашистская пуля у больного Засецкого и что за резервы сумел ввести в действие мозг Засецкого здорового, чтобы устоять в столь безвыходной ситуации? Спустя год после того как я познакомился с Александром Романовичем Лурия, я знал ответы на эти вопросы, Нет, я недалеко ушел по той стезе, что ведёт к постижению мудрости Мозга, я мало, увы, приобщился к его тайнам. Но мне дано было понять главное: Он — во всем, и в Нем — все. Ибо сколь ни чудовищна фантазия Данте, измыслившего ледянящие Кровь пытки для каждого из грешников своего ада, но любая из них вмиг прекратится, стоит лишь разрушить совсем небольшие участки в мозге несчастных, за секунду до того корчившихся от невыносимых мук. Движение скальпеля — и бесследно ушла боль от адского пламени, и не страшна более геенна огненная. Жидкий азот пробежал по микроскопической трубке — выморожена точка, что заставляет слышать дикие голоса, и счастье нисходит на оглохшего грешника. Лишь чуть дольше поработал хирург, отсекая лобные доли мозга,-—и нет нестерпимой тоски и отчаяний, ничто уже не исторгнет вопль ужаса из груди вечноспокойного отныне человека. Трижды и семижды девять кругов мог построить в своем воображении гений поэта, но и в последнем из них единственным инквизитором и палачом будут несколько сот граммов мягкого, студенистого вещества, которые мы носим, как драгоценность на самой вершине своего тела, там, “где, по мнению некоторых, расположен дом души”, как говорил другой гений, Вильям Шекспир;,. 2. ДОМ ДУШИ Студенты — они всегда студенты: из десяти биологов на вводную лекцию по курсу нейропсихологии пришло семь, психологи опоздали на полчаса, две девушки, сидя в метре от Лурии, умудрялись попеременно то дремать, то читать детектив, укрывшись за спиной широкоплечего, с бородой и усами, как у Пугачева, парня, который, напротив, не только слушал, но даже, кажется, делал кое-какие пометки в тетради. Что ж, у них впереди вечность,.. А я спешу записать и запомнить каждое слово. ОО Из стенограммы лекции профессора Д. Р. Лурии. “Лет двадцать тому назад одному знакомому мне ученику десятого класса задали в школе сочинение на тему “Мозг и психика”, и он начал писать его так; “В нашей стране органом психики считается мозг”. Вряд ли кто с ним станет спорить. Высказывание это верно, Но оно пусто. Беда, однако, в том, что каких-то три-четыре десятка лет назад и специалисты-психологи, которые сталкивались с необходимостью изучить мозговые основы психической деятельности, знали немногим больше этого ученика. Им было известно, что именно мозг является материальным носителем психики, они знали, что есть условные рефлексы, которые лежат в основе психической деятельности, существовали некоторые, самые общие соображения о том, как может быть устроена память, — вот, собственно, и всё. Но за последние сорок лет дело существенно изменилось. Развилась новая отрасль психологии, которая объединяет исследования невролога в изучении мозга и достижения психолога в том же направлении, Почему эта область развилась? Позорно и невозможно было дальше оставаться психологам в положении того школьника. Но в науке новые идеи, даже если они уже и созрели, требуют для своего появления на свет некоего толчка — надо, чтобы появились некие настоятельные потребности. И вот развитие хирургии, которое позволило ей стать нейрохирургией и делать операции на мозге, потребовало быстро и точно оказать: в какой именно точке мозга больного требуется вмешательство. Бели вы точно, и своевременно направите руку хирурга, больного можно спасти. Если же замешкаетесь со своим диагнозом или ошибетесь на сантиметр-другой, то больной умрет. Так ВОЗНИКЛИ практическая задача: ранняя и точная топическая, то есть локальная, диагностика нарушений в мозге,— а ими могут быть воспалительный процесс, опухоль, аневризмы, травмы, которые не видны глазу врача”. ...Лурия, в сущности вовсе и не “читал”: лекцию —он просто думал вслух, рассказывал о вещах, для него очевидных, рассказывая не в первый и даже не в сотый раз. Он совершал один за другим новые “заходы” на тему, и я мог позволить себе удовольствие “в следить за его мыслью, но просто наблюдать, вслушиваться в мелодику речи, отмечать про себя характерные жесты. Одно преимущество перед студентами у меня все-таки было: я знал уже те азы, что им предстояло усвоить. Магнитофон, моя палочка-выручалочка, трудолюбиво тянул пленку —я стал слушать вполуха. ...Действительно, как угадать, что нарушилось в скрытом от нас механизме мозга—где? много ли? в одном ли месте? Казалось бы, есть простой путь—пойти к невропатологу, он все скажет. Если же у него возникнут затруднения — обратиться к рентгенологу или электрофизиологу, и они по рентгенограммам и электроэнцефалограммам во всем разберутся наверняка. Беда, однако, в том, что все эти методы, хотя они и очень нужные и точные, тем не менее, недостаточные. Вы приходите к невропатологу. Он берет иголочку и начинает вас ею укалывать, иногда рисует у вас на руке какую-нибудь фигуру и просит угадать, что именно. Потом он дает вам два пальца — на большее обычно невропатолог не идет, — чтобы вы их сжимали изо всех сил, сперва одной рукой, потом другой. Если правая рука хуже чувствует да еще и хуже жмет, невропатолог заключит, что пострадало левое полушарие. И наоборот. В конечном счете, он проверяет только моторные и сенсорные области коры и их пути. И все рефлексы — коленный, брюшной, многие, другие — они тоже говорят ему лишь о том, какое полушарие пострадало. А где — в коре ли, в подкорковых узлах или в проводящих путях — неизвестно. Потом, наконец, невропатолог устанавливает, какое у вас поле зрения — где вы видите, а где — нет, то есть анализирует зрительную кору. Вот и все, чем он, по существу, располагает. Но ведь это — всего одна четверть коры. А другие зоны — немые, они не умеют ответить на вопрос, который им предлагают, хотя и связаны с гораздо более сложными функциями, выполняемыми мозгом. Тогда, быть может, рентгенолог сумеет увидеть, все ли в этих зонах в порядке? К сожалению, и он часто бессилен, потому что консистенция опухоли такая же сметанообразная, как и вещество мозга. Можно, правда, вводить контрастное вещество в сосуды мозга и тогда кое-что, действительно, удается разглядеть, но процедура эта не безболезненная и далеко не всегда достаточно эффективная. Электроэнцефалография—еще одно очень мощное средство. Но тут чрезвычайно часты ошибки из-за того, что улавливаются некие вторичные изменения, вызванные тем, что поврежденные участки мозга давят на здоровые, деформируют их и изменяют тем самым их электрическую активность. В последнее время появились и еще более совершенные методы диагностики неполадок в мозгеангеография и гамматопоскопия. Они многое дают врачу —но не все, что ему было бы нужно. Получается, что, несмотря на всю современную медицинскую технику, надо искать какие-то иные, новые методы, которые позволили бы уловить нарушения в “немых” участках мозга. Но что это за зоны, которые никакой симптоматики не дают — ни сенсорной, ни двигательной, ни рефлекторной? Это как раз специфически человеческие образования мозга — те, которыми человек отличается даже от обезьяны, не говоря уж о кошках и крысах. В процессе эволюции над первичными зонами надстроились вторичные и третичные. Они связывают между собой зрение, слух, осязание, они перерабатывают информацию, поступающую от разных органов чувств, осваивают весь этот материал, соотносят сигналы, поступающие от разных анализаторов и создают те схемы, в которые все эти данные укладываются. Такую же роль играют и лобные доли мозга, к которым стекаются импульсы отовсюду — ото всех решительно зон коры, и от ретикулярной формации, и от подкорковых узлов. Лобные доли занимают у человека около тридцати процентов объема всех полушарий. Но никаких сенсорных, никаких моторных функций они не выполняют и, следовательно, невропатолог их “не чувствует”. Долгое время вообще считалось, что можно без них обойтись, что это роскошь природы. А оказывается — это очень важные отделы мозга: они дают возможность интегрировать, объединять импульсы, идущие от различных анализаторов и планировать действия человека, создавать сложные фор-программы. Чтобы уловить непорядки в этих зонах, надо исследовать не рефлексы, а сознательное поведение, сложную организацию человеческой деятельности. Но это уже не по силам физиологу. Лишь психология с ее тонкими методами и изощренной наблюдательностью могла надеяться выработать приемы, чтобы уловить по изменившемуся поведению больного нарушения в ранее “темых” отделах коры. Если бы это удалось, родилась бы новая наука — нейропсихология, помощница неврологии и нейрохирургии, способная точно указывать место в высших отделах мозга, где стряслась беда. И наоборот — сами эти локальные поражения стали бы материалом, на котором новорожденная наука могла надеяться когда-нибудь раскрыть формулу десятиклассника, которую вспомнил Лурия вначале своей лекции. Надеждам этим во многом суждено было исполниться — и лекция, которую читал Александр Романович, была тому свидетельством. Но лишь одним из многих — нейропеихологические исследования идут теперь во всем мире, и все меньше и Аленьше становится “белых пятен” в коре головного мозга. Можно, пожалуй, сказать, что “немых зон” сегодня вообще не существует, а есть лишь врачи, которые не слышат их голосов. В историях болезни ведущих медицинских учреждений—например, Института нейрохирургии имени Бурденко — выделена специальная страница: “Нейропсихологическое исследование”. Отнюдь не дань моде: нейрохирурги и невропатологи имели не одну сотню случаев убедиться, что данные, полученные нейропсихологом, вдвое, втрое расширяют знания врача о неполадках в мозге больного. Я не заметил, как прошел первый час. Александр Романович отпустил всех минут на пятнадцать-двадцать, мы с ним остались вдвоем. — На кого больше всего похож нёйропсихолог — на врача, исследователя, экспериментатора, кабинетного теоретика или на всех сразу? — спросил я. — На сотрудника уголовного розыска,—не задумываясь, ответил Лурия. ...Зазвенел звонок. Студенты вернулись на свои места. И вновь побежали перед нами рельефные, четкие образы—прошлого, будущего, настоящего, образы, выстроенные Александром Романовичем в строгий ряд — не по росту, а по смыслу и значению. Нет, не введение в нейропсихологию слушали студенты МГУ —им, передавался образ мышления, годами накопленный бесценный опыт, умение по-особому видеть мир... Четкие, рельефные образы бежали перед нами. Вот детство человечества, античность. Древние еще спорили о том, где помещаются человеческие способности воспринимать, думать, вспоминать, рассуждать. Одни считали, что всем этим управляет сердце, потому-то оно и бьется, другие полагали, что хранительница разума—диафрагма, недаром же она ритмично вздымается, очевидно в такт мыслям. В средние века сомнений уже не оставалось — да они в то время и не допускались. Ученым было ясно, что все дело в трех желудочках мозга: первый — воспринимает, второй —мыслит, а третий — запоминает. Естественно: природа не терпит пустоты, и раз они пустые, значит, тут и помещаться “мыслительной субстанции” — не может же она, в самом деле, проникнуть в плотное вещество мозга! Эта дикая для средневековых анатомов и философов мысль стала, приемлемой для ученых всего двести, лет назад ...Характер образов изменился — теперь это уже были не лица древних философов, прекрасные в своем стремлении постичь истину, и не искаженные страхом и ненавистью к таким поискам физиономии средневековых схоластов, но тщательно вычерченные до тонкостей подробные карты. Карты самого неизведанного материка. Составленные полтора века назад венским, а затем парижским врачом Францем Иосифом Галлем, они подкупали своей простотой и наивным изяществом. Галлю, ученому, впервые описавшему серое и белое вещество больших полушарий, непременно надо было найти мозговые центры, управляющие человеческими способностями и задатками, — и он нашел их, заставив работать свое собственное воображение. Так родилась пресловутая френология: поскольку всем — умом, экспансивностью, нежностью; даже любовью к родине заведует строго определенный участок мозга, то если он увеличивается — данный талант растет, а на голове в соответствующем месте появляется выпуклость. А если на положенном месте шишки нет, то, значит, способностью этой бог не наградил. Получается удивительно удобно: потрогал рукой череп— и пожалуйста, любой человек как на ладони. Над галлевским шишковедением можно, конечно, смеяться, но что предлагает наука взамен его? Одна за другой следуют все новые и новые карты мозга, мелькают фамилии их создателей. Вот крупный немецкий психиатр Карл Клейст. Его “функциональная карта мозга” составлена более чем через сто лет после Галля, и он исходил не из догадок и предположений, а использовал огромный материал наблюдений над огнестрельными ранениями мозга в течение первой мировой войны. И что же? Его метод получать данные о работе мозга был новым, но способ их интерпретации оставался старым: раз ранение левой височной доли вызывает нарушение понимания фраз, а поражение лобных отделов—изменение активного поведения, то, следовательно, висок мозговой центр понимания речи, а лобные доли — центр “социального Я”. И никаких сомнений при этом не возникает — в самом деле, хорошо ведь известно, что здесь вот локализуется тактильная чувствительность, вот тут — место, которое управляет движением, недалеко— отдел, ведающий зрением. Каждый анализатор, будь он двигательным или тактильным, зрительным, слуховым, имеет свой центр в коре головного мозга. Почему же, действительно, не подумать, что точно таким же аппаратом обладают и сложные психические процессы? Может быть, есть такие центры которые ведают не чувствительностью или движением, а речью, Письмом, чтением, счетом? То есть сложные психические процессы так же точно локализованы в мозге, как и простейшие. Сегодня психологам кажется странным, что подобные мысли приходили в голову серьезным ученым. Но многие физиологи и врачи до сих пор держатся весьма схожих взглядов. Их не смущает, насколько сложные понятия скрываются под словом “счет” или “речь”, им не кажется нелепым, чтобы один какой-то участок мозга взял на себя эту непосильную работу. Однако такой подход— локализационистский — имеет свои основания. В одну парижскую клинику привезли больного с гнойником на ноге. Он умер, и на вскрытии молодой анатом Поль Брока обнаружил у него размягчение в задней трети нижней лобной извилины левого полушария. Брока посетила гениальная догадка: не связано ли с этим поражением мозга расстройство психики? Депо в том, что больного доставили из психиатрической лечебницы, где он провел двадцать лет, на все вопросы отвечая лишь “та-та-та”. Брока предположил, что мосье Тата (как звали больного между собой врачи) не говорил потому, что у него в мозгу был разрушен некий центр речи. Брока проверил свою гипотезу на нескольких подобных больных, и пришел к выводу, что нашел место этого центра. Когда он оказывается разрушенным, человек сохраняет способность управлять мышцами губ, языка, но он “забывает моторные, двигательные образы слов”. Так говорил в своем докладе Брока в 1861 году. Через двенадцать лет немецкий психиатр Каря Вернике сделал другое наблюдение. У его больных поражение располагалось тоже в задней трети, но только верхней височной извилины того же левого полушария. У них картина наблюдалась обратная — они как раз говорили, даже слишком много, беспомощно как-то лопотали, но не понимали обращенной к ним речи. И потому Вернике сделал предположение, что ему удалось нащупать, как он выразился, “центр понятия” слое. За последующие “блистательные семидесятые” годы как ураганом нанесло новые поразительные открытия. Различные васко-да-гамы нашли на карте мозга центры письма, счета, чтения, ориентировки в пространстве. Все сложные формы психической деятельности получили каждая по своему центру. Эта идея узкого локализационизма полностью овладела умами. Вот тогда и были созданы прекрасные подробные карты, которые основаны на обработке огромного материала наблюдений над различными ранениями мозга, недостатка в которых во время первой мировой войны не было. Эти карты хороши всем, за исключением лишь того, что они абсолютно неверны. Пользуясь ими, можно лишь заблудиться, и одними заблуждениями до самого последнего времени была вымощена дорога к пониманию работы мозга*. * Гравюра Маурица Корнелиса Эсхера “Спираль” на первой странице обложки этой книги может служить иллюстрацией к тому пути, которым шла мысль ученых. Мудрый Конфуций сказал когда-то: “Самое трудное — это поймать кошку в темной комнате, особенно тогда, когда ее там нет”. Слишком уж соблазнительно было делать одно выдающееся открытие за другим, просто не хватало времени для скрупулезного анализа строгости научных выводов... К тому же концепция локализационизма получила, казалось бы, мощное подкрепление на клеточном, нейронном уровне. Немецким нейрофизиологам Хьюбелю и Визепю в начале шестидесятых годов уже нашего века удалось отвести сигналы от отдельных нейронов, вживив в них тончайшие электроды. Вскрылась совершенно удивительная картина. Оказалось, что существуют высочайшим образом специализированные нейроны. Есть такие, что реагируют только на движение точки от периферии к центру, а есть такие, что “срабатывают”, лишь когда точка перемещается от центра к периферии, одни из них настроены только на прямые, другие — только на округлые линии, лишь на низкие или высокие тона и так далее. Причем каждый подобный нейрон находится в строго определенном месте мозга. После этих опытов совсем по-новому стала представляться вся механика восприятия человеком мира. Оказалось, он дробит мир на грандиозное количество составляющих элементов, на десятки тысяч признаков — линий, углов, направлений, а затем как-то их объединяет. Но если уж так высоко специализированы отдельные нейроны, то отчего же не думать, что такая же локализация есть и в коре головного мозга? Лурия рассказывал, как несколько лет назад у него произошел крупный спор с профессором Ежи Конороким, известным польским психологом, к сожалению, недавно скончавшимся. Они встретились на очередной Гагрской конференции, и Лурия, к своему удивлению, убедился, что даже такой большой специалист, как его польский коллега, довольно странно представляет себе функциональную организацию нейронов. В своей книге — она, кстати, была переведена на русский язык —он рассуждал так: у каждого человека есть нейроны, которые отвечают за большие совокупности разных признаков — понятие “кошка”, понятие “собака”, “блондинка”, “брюнетка”. Когда к старости все эти нейроны заполнены, то уже нет места для новых понятий, и потому старики плохо усваивают новое. Александр Романович попытался убедить автора книги, что в действительности все совсем не так. “Если я воспринимаю вас, — говорил он ему, — то это не значит, что у меня в определенном нейроне сидит готовый образ. Вот вы — маленький, толстенький, лысенький и без очков. А вот рядом с вами стоит тоже профессор и тоже психолог, но вытянутый, тоже лысый, но в очках. Так что же, у меня есть нейрон одного и нейрон другого? Да нет, конечно! Все эти нейроны, высочайшим образом специализированные, они выбирают признаки— признак лысости, признак чего-то кругленького, чего-то вытянутого, очкастого и безочкового, и дальше из этих признаков они синтезируют либо одного, либо другого из моих коллег”. Но даже этим сравнением Лурия не сумел убедить своего оппонента... Факты, однако, еще упрямее признающих и даже не признающих их ученых. А факты свидетельствуют: нет нейронов, которые несут в себе понятие кошки или крысы, есть нейроны, которые, действительно, специализированы на отдельных признаках, а дальше уж дело синтеза—создать из этих признаков тот или иной образ. Поэтому всякая попытка перейти к идеям узкого локализационизма, ища опору в опытах Хьюбеля и Визеля, бессмысленна. Обнаруженная ими высокая специализированность нейронов предполагает только одно: эти нейроны могут избирательно реагировать на отдельные признаки, но совершенно не говорит о том, что в этих или иных нейронах или участках мозга могут быть локализованы целые образы. Когда самое, казалось бы, надежное подтверждение правоты локализацирнистов при более тщательном рассмотрении стало работать против них, то многие усомнились в безукоризненности той интерпретации, что давалась раньше тысячам историй больных. Да, речь всегда нарушается, если поврежден вот этот участок мозга. Но она ведь поражена и у тех больных, чей мозг поврежден совсем в другом месте! То же самое — с письмом, счетом, памятью. Для каждой из высших психических функций требуется сохранность не одного какого-то, а множества отделов мозга. Когда тот же материал, которым пользовались сторонники локализационной теории, был переосмыслен, исследователи перекинулись к прямо противоположной точке зрения, впали в иную крайность. “Мозг работает как единое целое”, — заявили они. Но и эта концепция оказалась столь же неудовлетворительной, как и первая. Конечно, мозг работает как целое! Но означает ли это, что он работает как безразличное целое—как всюду одинаковое, однородное образование? То новое, что принесла с собой нейропсихология, — это подход к мозгу как к сложной функциональной системе, подход, отрицающий и узкий локализационизм, и “глобализм” — взгляд на мозг как на однородное целое. Павлов в свое время говорил, что если раньше дыхательный центр представлялся с булавочную головку, то потом он расползся по всему мозгу и теперь уже никто не может точно очертить его границы. Сейчас правильность его слов очевидна: не только дыхание, или, скажем, пищеварение — во всем, что делает организм, как выяснилось, принимают участие большие разветвленные системы. В еще большей степени это относится к сложнейшим психическим процессам. Ни одна “умственная” функция не сидит в определенной группе клеток. И потому к изучению психики надо подходить с точки зрения распределения по мозгу различных функциональных систем. Вот, скажем, то же дыхание, о котором говорил Павлов. Задача этой системы—довести воздух до альвеол легкого. Но можно ли думать, что она выполняется прочно закрепленной рефлекторной дугой: сигнал о недостатке кислорода заставляет дыхательный центр скомандовать межреберным мышцам, чтобы они расширили грудную клетку, воздух входит внутрь ее, кислород проникает к альвеолам? Нет, ибо если анастезировать межреберные мышцы, вспрыснув в них новокаин, человек не умрет от удушья —в работу включится диафрагма, она станет расширять грудную клетку. Если же вывести из строя и диафрагму, то он будет заглатывать воздух. Получается, что задача одна —довести воздух до альвеол, но она может осуществляться целым рядом сменных звеньев. Принципиально именно так устроен любой акт поведения, и уж особенно — высшие психические функции: в их осуществлении всегда принимает участие не одна зона коры, а целая разветвленная система таких зон, и каждая из них решающе важна. И вот тут-то кажется, что природа приготовила для нас западню; Если, скажем, понимание речи или счет неминуемо пропадет, когда разорвется любое из слагающих их звеньев мозговой деятельности, то как же по симптомам заболевания установить, какие именно отделы мозга повреждены? Любое нарушение психики — и сразу десятки мозговых зон оказываются под подозрением. И получается, что новый подход к работе мозга еще дальше увел от решения задачи скорой и точной топической диагностики, чем даже пресловутые френологические карты Франца Иосифа Галля... Нет, по счастью, не увел. Дело в том, что каждый участок мозговой коры вносит свой собственный, особый, отличный от других вклад. А потому если выпадает любой из них, то разваливаются сразу несколько функциональных систем, в которые этот участок входит как одно из необходимых звеньев, И распадается каждый раз по-своему, специфическим образом. Зная это, нейропсихолог никогда не говорит: у человека нарушена та или иная функция, он обязательно выясняет, как она нарушена, и что еще, одновременно с этим, перестало нормально работать в организме, какие сбои наступили во всех остальных психических процессах. Он изучает, таким образом, не симптом, а синдром, то есть совокупность всех наблюдаемых расстройств. Когда удалось расчленить все поведенческие акты на отдельные простейшие единицы, стало понятным, как из этих кирпичиков синтезируется любое действие. Поэтому, определив, что именно недоступно данному больному, всегда можно выявить, что за кирпичики разрушились—какие участки мозга вышли из строя. В этом и состоит идея о трех главных функциональных блоках мозга, лежащая в основе нейропсихологии. И в этом же смысл слов Лурии об уголовном розыске. Нет, Александр Романович не шутил и не пытался спастись от моих расспросов на краткое время перерыва, подбросив задачку на сообразительность, и даже не вспоминал вдруг по какой-то ассоциации свою недолгую, но любопытную работу в прокуратуре. Он просто подарил мне ясный, рельефный образ, точное, емкое сравнение: как опытный детектив складывает улику к улике, так и нейропсихологи накапливают симптомы нарушений в работе мозга. Глаза, нос, губы, подбородок могут быть схожими у разных людей, но лишь одна определенная комбинация составит лицо таинственного мистера Икс. Невролог и рентгенолог докладывают о своих находках, на стол ложатся энцефалограммы, данные различных тестов — все отчетливее вырисовывается портрет заболевания. Любой преступник — опухоль, кровоизлияния, воспаление — оставляет следы, надо только уметь их вовремя найти, сопоставить, свести вместе, чтобы посмотреть, на что все это похоже. А для этого следует иметь полный набор всех мыслимых компонентов, из которых только и может состоять неясный нам пока образ. Недаром лежат в столах криминалистов карты для необычного пасьянса —все типы лбов, губ, носов, брови и усы любого вида, все, сколько только их может быть, разновидности ушей и глаз, все тщательно изученные и классифицированные детали, составляющие то неисчерпаемое разнообразие лиц, что окружает нас в жизни. И точно так же, разбив все мыслительные, высшие функции мозга на простейшие составляющие их части, могут нейропсихологи составлять комбинацию за комбинацией, пока одна из них точно не совпадет с тем набором симптомов, что наблюдается у больного. ...Да, но что-то неосознанное меня беспокоило. Слишком уж просто все получалось и очень уж точная наука о мозге вставала из этих рассуждений. Какая-то атомная психология, нечто вроде менделеевской таблицы: два атома внимания, один атом понимания— вот вам молекула мышления, некое интеллектуальное H2O! Но кто поручится, что изучены все единицы поведения, что не остались где-нибудь редкие земли или неуловимые инертные газы? Что вот этот, данный поведенческий акт — химически чистый, без примесей других элементов? И до какой степени надлежит дробить все наши поступки и душевные порывы, чтобы приготовить препараты для новейшего психологического микроскопа? И еще какая-то, очень важная мысль, но из совсем другой области вертелась в голове. И вдруг меня осенило. Господи, да как же я раньше этого не понял? Если одну и ту же психическую функцию можно построить из разных кирпичиков, собирая несколько разных цепочек, то надо попробовать создать в поврежденном мозге обходные пути, минуя разрушенные участки. Зна-чит, если я правильно понял Александра Романовича, то нейропсихология не только дает своевременный и точный диагноз для хирурга, она еще способна вернуть человеку утраченные способности, не прибегая к вмешательству скальпеля! Я не скрыл от Александра Романовича своих мыслей. Он посмотрел на меня почти без улыбки, потом вдруг резко отвернулся и почему-то покопался немного а бумагах за спиной. Ничем — ни словом, ни жестом не дал он мне понять, сколь забавно прозвучало мое гениальное открытие в этих четырех стенах. А когда заговорил, голос его звучал как всегда мягко и серьезно: — Разумеется, вы правы — мы не только диагностируем. Мы, скажем, восстанавливаем речь у людей, которые лишились ее,— из-за травмы, опухоли или иного повреждения мозга. В Клинике нервных болезней медицинского института работает наша лаборатория, ею руководит моя ученица, Любовь Семеновна Цветкова, доктор психологических наук, специалист по лечению афазий — нарушений речи. А идея такого лечения именно и состоит в том, чтобы найти обходной путь, используя неповрежденные аппараты мозга. Позволю себе привести пример из работ своего учителя, Льва Семеновича Выготского, которые он вел еще в двадцатые годы. Тогда в нашей стране были часты случае эпидемического энцефалита, при котором поражаются подкорковые узлы, а это, в свою очередь, ведет к паркинсонизму — болезни, оказывающейся в нарушении тонуса мышц. Выготский сделал поведение паркинсоников предметом специального исследования, которое дало неожиданные результаты. Известно, что в тяжелой, запущенной форме паркинсонизм приводит к грубому нарушению автоматизированных движений: человек может пройти лишь два-три шага, а потом тонус мышц резко возрастает, начинается характерное дрожание, и всякое движение становится невозможным. Однако, как показали наблюдения, тот же самый больной без труда ходит по ступеням лестницы. Если же разбросать по полу бумажные карточки, то он легко перешагивает через эти “модели” ступенек и перемещается по комнате, не встречая сложностей. Что отсюда следует? Что подкорковые автоматизмы позволяют здоровому человеку ходить, не задумываясь над последовательностью действий. Если: же автоматизмы эти разрушены, то их можно заменить цепью единичных движений, “выкованной” на корковом, сознательтном уровне—ступенями лестницы, карточками, разбросанными по полу. И тогда тот же двигательный акт осуществится на новой основе. Вся функциональная система, управляющая походкой, перестраивается, чтобы обойти разрушенный участок в подкорке. Эта ранняя работа дала толчок многим исследованиям, и теперь у нас есть немало выверенных приемов, позволяющих проложить в мозгу новые “рельсы” —то есть, используя оставшиеся в распоряжении больного средства, восстановить распавшиеся функциональные системы. Вот вам, если желаете, простейший пример. Бывает так, что у человека нарушен механизм, позволяющий ему отличать глухие согласные от звонких. Для него “баба” и “папа” звучат одинаково. Вообразите, что с вами случилось такое несчастье. Вообразили? А теперь поставьте перед губами ладонь и скажите энергично “б”, потом — “п”. Чувствуете разницу? Вот так мы используем тактильный анализатор, способность чувствовать вибрацию, другие возможности, оставшиеся в нашем распоряжении, чтобы заменить разрушенный участок пути, по которому идет информация в мозге. Александр Романович сделал паузу. Видимо, ему очень не хотелось второй раз за этот день читать лекцию куда приятнее было бы просто поговорить — и он давал мне возможность включиться в беседу равноправным участником. Но ни одна путная идея не приходила в голову —хуже того, возрастало недоумение, непониманиё чего-то главного. Прекрасная мысль — строить обходную дорогу, я так радовался, когда додумался до нее, но теперь, после слов Лурии, энтузиазм мой сильно поуменьшился. Прежде, чем пробивать просеки, выравнивать обочины и укладывать асфальт, неплохо бы еще знать, откуда и куда нам ехать, и что именно мы собираемся обойти стороной. Ну, а попросту — надо сначала выяснить, из каких кирпичиков состоят психические функции. А уж только потом можно собирать из этих “составляющих” те или иные маршруты в мозге, строить обходные или какие иные до-роги... Лурия, выслушав мои недоумения, взглянул на меня как-то по-новому. Он переменил позу, уселся поудобнее. Не могу отдать предпочтение ни одной из двух гипотез: то ли он понял вдруг, что от лекции все равно никуда не уйти и радовался окончанию внутренней борьбы, то ли также вдруг впервые увидел во мне в какой-то мере собеседника. — Вас интересует, каким образом мы расчленяем высшие психические функции на простейшие поведенческие акты, — сказал он, ив голосе его, быстро приобретавшем профессорские интонации, слышался не вопрос, а утверждение.— Для вас, человека пишущего, пусть примером будет письмо. Встреться мы сто лет назад, я бы сразу показал вам на карте мозга центр Экснера—вот тут, в среднем отделе левой премоторной области. Здесь, сказал бы я вам, место мозговой локализации письма. По какой логике считал бы я именно этот участок мозга ответственным за письмо? По очень убедительной и простой. Писать— это значит совершать рукой тщательно рассчитанные движения. А центр руки—правой у правши—расположен как раз вот тут, в средних отделах првомоторной зоны, правда ведь, и новейший сегодняшний учебник вам то же скажет. Ну, а тонкие движения связаны со вторичными, то есть более развитыми отдеяами этой самой двигательной зоны руки. Вот вам и центр письма. Александр Романович листал прекрасно изданный альбом карт мозга—от древних, мудро простых, до современных, наивно сложных. Речь его лилась свободно, голос звучал уверенно и убедительно. Но я слушал —и не слышал. Ни слова, ни фразы не имели для меня самостоятельного значения — я не следил даже за логикой. В сущности он не говорил ничего для меня нового, ничего такого, что бы я не успел уже прочесть, услышать, что бы уже не стало частью меня самого. Но лишь теперь эти ранее разрозненные сведения сливались для меня в нечто целое, законченное, обладающее своей внутренней логикой. Я знал наперед, каким путем пойдет мысль Лурии. И редкая радость провидения и почти недоступное людям наслаждение интеллектуального слияния снизошли на меня — щедрой наградой за месяцы бдений над книгами и статьями и часы медицинских разборов в клинике... ...Раз как-то судьба ненадолго свела меня с одним известным Дирижером. Мы сидели в консерваторской ложе, и я наблюдал, как он слушал малеровскую музыку, каждый звук которой был ему не просто знаком, но близок. Он до тонкостей знал и манеру исполнителя, и акустику зала, и вообще никаких открытий или сюрпризов не ждал — и блаженствовал! Встреться мы не в консерватории, а здесь в тихом кабинете на улице Фрунзе, мы поменялись бы местами — он завидовал бы мне. На этот раз я вслушивался в знакомую мелодию речи, голос и интонации, и сама тема и даже слова тоже были близки и я мог за неуловимый миг до того, как они будут произнесены, услышать их в себе и наметить, что следует делать и говорить дальше. Словно не Лурия мне, а я Лурии рассказывал удивительные, прекрасные в своей законченности и простоте вещи. “Центр Экснера, центр письма...” — звучало в сознании, а само оно готовило развитие и продолжение этой темы. ...Да, так вот — центр Экснера. Упомянув о нем — сразу же отступить назад, чтобы окинуть взором логику своих построений — и усомниться в их исходном положении: что письмо является просто тонкими движениями руки. Быть может, письмо включает в себя и еще какие-нибудь операции — а в этом случае один центр мозга не сможет им заведовать. Но тогда какие другие участки мозга “задействованы” при письме? На каких основаниях? Что каждый из них вносит в общее дело? Здесь следует немного удивиться возникшей задаче: действительно, легкое ли дело проанализировать состав такой сложной психической функции, как письмо, узнать, какие компоненты в него входят? И сразу же — четкая профессорская фраза-определение? “Это называется “психологической квалификацией”, то есть качественным анализом”. Повторить конец ее — пусть запишут. Далее— безо всяких приемов, говорить просто, как думается. Свободно, раскованно и вовсе не обязательно строго “по-луриевски” — в конце концов и собственная жизнь тоже дает кое-какой опыт, и свои воспоминания тоже кое-чего стоят. ...Что нужно, чтобы написать слово? Даже если пишешь не с чьего-то, а с собственного внутреннего голоса, все равно надо услышать, что первый звук “с”, а не “з”, второй “л”, а не “р”, третий—“о”, а не “а”, Дело не в хорошем или плохом слухе — нет. Джули, мой сеттер, слышит несравненно лучше меня, но ей не дано Отличить “б” от “п” или “д” от “т”. Сын научил ее на команду “бобчи!” ложиться на пол и класть голову между лап. Но я как-то отдал ей не менее нелепое указание “поп чхи!”, и наша верная ирландка, не задумываясь, растянулась у моих ног в той же позе полной преданности. У нее тонкий слух, но различать фонемы человеческого языка ей не под силу. И этим, увы, самая лучшая собака отличается от самого никудышного человека — у него слух организован всей системой языка, с его сложным смыслоразличительным аппаратом, а у нее слух наивен, непосредствен, неорганизован. Я слышал, правда, как в Ленинграде известный наш психолог Григорий Викторович Гершуни утверждал, что у животных слух тоже организован. Но не языковой системой! Скажем, для кошки имеет огромное значение характерный скребущийся звук — это мышь суетится, торопится навстречу гибели. Для овцы, естественно, звук этот никакого смысла в себе не несет. Подпуская некоторое приятное наукообразие: животные выделяют из прочих звуков важные с биологической точки зрения, а человек — компоненты, связанные с фонематическим строем того или иного языка. В русском большая смыслораэличительная нагрузка ложится на гласные: “мул”, “мол”, “мал”, “мил”, “мел”, “мыл”, “мёл”, “мял” — все это разные слова.: Но в тюркских, например, языках гласный звук может быть любой, а слово останется прежним: и “ман”, и “мин” и “мен” все равно значит “я”. “Пыл”, шил”, “пыль”, “пиль!”—это все для русского уха слова совсем не схожие, но немец их не различает, потому что для него мягкость и твердость согласного значения не имеют. Для русского долгота гласного звука —никакой не фонематический признак, для англичанина — один из важнейших. Высота тона во вьетнамском языке дает слову “ба” шесть разных значений, но европеец едва ли сумеет отличить одно от другого. Степень открытости гласного звука во французском, придыхание, с которым произносятся согласные в грузинском, масса иных признаков организуют слух человеческий той системой языка, в культуре которого человек этот вырос. Все это факты более или менее известные — я узнал о них не от Лурии, много раньше. Но сведения мои были поверхностными, несистематичными, а психолог, исследующий письмо, обязан подобные фонетические тонкости знать досконально, потому что первый шаг при письме — это и есть услышать не просто звуки, но звуки некоего языка, то есть преломить их через призму определенной звуковой системы, отнести к тому или иному типу языковых фонем. ...Получается, что рано начинать двигать рукой, центр Экснера может еще отдохнуть в своей левой премоторной области. Пока еще идет анализ звуков, а он осуществляется височной областью, которая управляет слухом, вторичными, более “тонкими” ее отделами. Если они нарушены, то человек продолжает слышать, только он не может квалифицировать звуки: ему не удается отнести их к определенной звуковой категории. Когда гремят ложками в столовой, он прекрасно понимает, что сие означает; когда мышь скребется, он тоже знает, к чему это, но “б” от “п” ему, как и моей Джули, не, отличить — у него произошел распад фонематического слуха. Особенно трудно приходится такому человеку, когда фонемы разнятся всего лишь одним каким-нибудь признаком— скажем, звонкостью или глухостью: он не оглох, “б” от “р” отличает, а вот более тонко —уже не может. Помнится, когда в первый раз я увидел такого больного в клинике и Александр Романович впервые рассказал мне, в чем причина этого заболевания, я сумел стряхнуть с себя гипноз луриевских слов; обычно таких убедительных и неоспоримых. Как же так—утверждать, не имея к тому, в сущности, никаких оснований?! Больной говорит “кот”, когда его просят сказать “год”. Ну и что?! Причем тут фонематический анализ? Может быть, человек, просто не может произнести как надо. На слух различает, а сказать не умеет — на то он и больной. Александр Романович улыбнулся поощряюще. — Ну, разумеется, вы правы,— сказал он тогда. — Абсолютно правы. Нет никаких оснований. Но мы, конечно, каждый свой вывод проверяем многими способами. Я прошу больного на звук “к” поднять правую руку, а на “г” сидеть спокойно, и по одному только этому простому опыту мне становится ясно, что у него нарушен именно фонематический слух, а не моторика речи. И я замечаю для себя—надо проверить еще десятками других тестов, верно ли мое предположение: что-то не в порядке в левой височной области, в ее вторичном отделе, ...С той поры эти слова Лурии наполняют особым для меня смыслом широко распространенный жест, когда красноречиво крутят указательным пальцем около виска. “Что-то не в порядка в левой височной области...”. Я стал ловить себя на том, что нейропсихологические увлечения не проходят для меня даром: мысль стала работать сложно, зигзагами, самые простые вещи вдруг отчаянно усложнились. Месяцами заставлять мозг неусыпно думать о том, как сам он устроен, требовать от него, чтобы он смотрел на себя со стороны, сам подсматривал свои же тайны — посильная ли это нагрузка для моего бедного серого вещества, не защищенного профессиональным медицинским подходом к жизни? Все чаще я чувствовал некую расщепленность — то мне чудилось, что я немного Засецкий, то даже — чуть-чуть Лурия. И все чаще приходилось принимать на свой счет все тот же жест с вращением пальца у виска —когда вдруг останавливался, задумавшись, посреди тротуара или, задним числом сообразив, что означала брошенная кем-то фраза во время вчерашнего разбора больного, начинал счастливо улыбаться. Я, наверное, здорово поглупел в глазах окружающих. Но память моя осталась прежней, она даже усилилась — и потому, быть может, об устройстве памяти мы с Александром Романовичем ни разу не говорили, хотя его книга “Нейропсихология памяти”, вышедшая, как и другие его работы, сразу в нескольких странах, — давала тему для бесед не на один день. И в тот вечер, у него дома, речь шла только о письме. ОО Из памяти, сохранившей слова Лурии, сказанные в тот вечер: “...Итак, вот первый вклад мозга в письмо — роль височной его области при фонематическом анализе звуков. Но пусть, по счастью, с этими отделами мозга у человека все хорошо. Значит ли это, что и писать он будет тоже хорошо? Неизвестно— ведь пока у него есть к тому лишь одна из предпосылок. А вот вам другая, столь же необходимая. Когда ребенок учится говорить, или вы, уже взрослый, начинаеге изучать иностранный язык, надо обязательно “прощупать” языком, губами, зубами, нёбом звуки речи. Войдите к первоклассникам в первые два, три месяца их школьной жизни на урок письма Вы услышите бормотание — это они проговаривают то, что пишут, звук за звуком. Часть учителей думает, что это плохо: шумно в классе. Но другая, поумнее, говорит, что раз дети так делают, значит им это зачем-то нужно —ну и пусть себе бормочут. Мы экспериментально решили этот вопрос: поделили класс на две части, одна писала с проговариванием, а других детей заставили писать, сжав кончик языка зубами. В шесть раз больше ошибок было у “немых”! Мы исключили проговаривание — и погибло письмо. Правда, легко представить себе оппонента, который станет утверждать, будто наши опыты не чистые: а вдруг мы просто создали второй очаг возбуждения — отвлекли наших бедных детей тем, что им надо теперь держать свой собственный язык зачем-то прикушенным? Давайте проверим. Говорим ребенку гак: “Сожми левую руку в кулак и пиши”. Пишет без ошибок. Сожмет зубы — тоже все хорошо, ведь проговаривать он и так может. А вот арестован язык — тут уж все, письмо совсем безграмотное. Дело в том, что движения языка принимают участие в кинестетическом анализе звуков, и если анализа этого нет, то письмо очень затруднено. Как, однако, узнать, что именно плохо у нашего больного— фонематический или кинестетический анализ? Очень просто! Анализируйте характер ошибок, и вы увидите интересную вещь. У меня был больной, который вместо “халат” написал “хадат”. Почему так? Другой больной написал “слон”, когда я диктовал ему “стол”. Я не мог понять смысла подобных ошибок, пока не начал анализировать законы, по которым он их делал. Прошу вас, скажите вслух “л”, “н”, “д”. Вы чувствуете — звучит совершенно по-разному, а движение языка одно и то же. Все эти звуки нёбно-язычные, то есть кончик языка прикасается к передней части нёба, и лишь направление струи воздуха определяет разницу в звучании. Таких звуков много — скажите “б” и “м”, например. Чтобы различить их, надо уметь чувствовать артикулемы — а это и есть кинестетический, двигательный анализ речи. Нижние отделы постцентральной области — вот как точно называется место, разрушение которого делает подобный анализ невозможным. Видите, какая точная наука психология? Если грамотно поставлен опыт, то объясняются вещи, которые сначала казались совершенно непонятными. Теперь мы уже знаем о двух вкладах, которые делают разные зоны мозга — височная и теменная, в организацию письма. Но мало выделить звук и опереться на его кинестетический анализ. Необходимо еще перевести фонему и артикулему в графему — проще, букву. В этом переводе звука в букву принимают участие уже другие отделы коры — теменно-затылочные. Отчего так? Потому что в затылочной части расположен корковый конец зрительного анализатора, а теменные отделы вносят еще компонент пространственного анализа. Если эта область страдает, человек прекрасно слышит, прекрасно произносит, но он перестает ориентироваться в пространстве — не найдет, где право, где лево, где верх, где низ, как Засецкий, которого вы знаете. У такого человека неизбежно возникнут трудности с письмом. Букву “о” он напишет правильно, а вот как надо писать — “р” или “q”, “з” или “э”,— этого он не знает. У него письмо страдает в еще одном звене — нарушена пространственная организация. Но и этого мало! После первых школьных недель нам редко случается писать отдельные буквы — пишем обычно слова, ведь правда? Надо написать вам “кот”, значит, сперва пишете первую букву, потом необходимо перейти от нее ко второй, далее— к третьей, должна быть организована последовательность действий, “серийная организация поведения”, как говорил Лэшли, Но с функцией переключения с одного действия на другое связаны специальные отделы коры — премоторные. Если они повреждены, то у человека не страдает ни слух, ни кинестетика, ни пространственный анализ, но у него распадаются двигательные навыки. Если машинистка вдруг начинает печатать отрывисто, одну букву отделяя от другой долгой паузой, если пианист любую вещь играет стаккато — велика вероятность, что у них что-то произошло в премоторной области коры. А писать такой больной будет вот так: "МММММММ" и сам знает, что надо бы перейти к другой букве, да не может! Так ему слова “мишка” самостоятельно и не написать... И, наконец, последнее звено. Мы пишем не отдельные слова, а целые фразы, некоторые более или менее осмысленные тексты. Значит, мы подчиняем процесс писания программе. Эта функция принадлежит лобным долям коры. Если они повреждены, у человека не создается никакого замысла дальнейших действий. У Николая Ниловича Бурденко в клинике лежала больная с обширным поражением лобных долей. Все у нее было в порядке — слух, движение, понимание, но только плана своей деятельности она никогда не имела. Она, к примеру, писала Бурденко письмо так: “Уважаемый профессор! Я хочу вам сказать, что я хочу вам сказать, что я хочу вам сказать...” — и так четыре страницы! Еще один тип нарушения письма, и связан он с еще одной зоной мозга...”. Вот так расчленяются на составные части все виды высшей нервной деятельности. Работа, конечно, не из легких, она занимает годы и десятилетия. Но кто пожалеет о них сегодня, когда по характеру нарушения одного лишь, к примеру, письма, можно делать предположения — и обоснованные! — о том, какая именно зона мозга поражена у больного?
3. ГЛУБОКИЕ КОРНИ С каждой новой статьей, беседой, книгой огромный, разнород-ный и, казалось поначалу, мало связанный внутри самого себя нейропсихологический материал стал теперь все больше проясняться, укладываться в систему. Я научился уже видеть внутреннюю логику этой науки, но все-таки временами устраивал ревизии накопленным знаниям, задавая сам себе вопросы для самопроверки: — У двух человек повреждены совершенно одни и те же участки мозга. Одинаково ли у них нарушится письмо? — интересовалось мое вопрошающее “я”. — Все зависит от того, что это за люди и что за участки,— отвечало ему “я” экзаменуемое. — Если, скажем, один из них русский, а другой китаец и у обоих пуля разрушила височную долю коры, то первый писать не сможет, а второй будет писать как и до ранения. Дело здесь в том, что китайцы пишут иероглифами — значками, обозначающими слово и никак не связанными со звучанием этого слова. В Китае более полусотни разных языков, и если кто-то говорит по-кантонски, то его никто из знающих пекинский понять не может. Но значки во всех китайских языках одинаковы, в любом из них вот такой иероглиф означает “стол”, а такой — “мир”. Следовательно, при поражении слухового анализатора китаец продолжает писать как ни в чем не бывало. — Ответ правильный. Усложняем задание: теперь один из этих людей -японец. — А тут все зависит от места поражения. Ведь японский язык необычный — часть китайского, иероглифического типа, а другая— слоговый алфавит. “Кана” и “кандзи”— так называются эти две системы. Так вот, если японцу пуля попадает в левую височную область, то половина письма у него нарушается, а другая остается сохранной. Слоговое письмо становится ему недоступным, потому что тут надо анализировать на слух, а иероглифическое остается. Если же пуля попала в теменную область, то все происходит наоборот. — Ну что ж, опять прямое попадание: ответ верен. Тогда объясните еще один парадокс, связанный с работой мозга, который обнаружили нейропсихологические исследования. Что общего между умением ориентироваться в пространстве, счетом и пониманием грамматических конструкций типа “отец брата” или “мамина дочка”? — Спрашиваете — отвечаем. Ничего, если, конечно, не считать мелочи: когда у человека разрушены определенные участки в затылочной области, то ни того, ни другого, ни третьего он делать не умеет. Почему? С ориентацией все ясно — именно эти участки, как мы уже успели усвоить, изучая письмо, заведуют пространственными соотношениями. Со счетом лишь чуть труднее. Из 31 надо вычесть 7. От 30 отнимаем 7, получаем 23. А теперь куда отложить единицу—вправо или влево? Прибавить ее — будет в ответе 24, вычесть — 22, и вы никогда не решите, какой ответ правильный, если не умеете отличить “право” от “лево”. Вот так сказывается пространственный компонент в счете. А с грамматикой получается тоже сходно — там есть так называемые “квазипространственные соотношения”, не чувствуя которых, человек не поймет, что значит “мамина дочка”. Я нигде не ошибся? — домогалось поощрения экзаменуемое “я”. — Нет, но кое-что можно было бы и добавить, — не спешило с похвалой “я” вопрошающее. — Нейропсихологический подход не только позволил сблизить несходные вещи, но и разделить, казалось бы, одинаковые. Раньше думалось, что фонетический, речевой слух и слух музыкальный — родственны, учителя иностранных языков и сейчас так думают. Но вот несколько лет назад под наблюдением в клинике у Лурии был один очень известный советский композитор. После кровоизлияния в мозг он не мог различать фонемы, “б” и “п” для него звучали одинаково. И в те же годы он сочинил одну из самых лучших своих вещей! Значит, музыкальный и речевой слух имеют разную психологическую организацию и, как потом выяснилось, даже разные опорные механизмы в голове. ...Вот такие “самобеседы” я вел. И сознанием моим все больше овладевала мысль, оформляясь, как ей, и положено, с помощью многих участков коры моего головного мозга. Как же должно быть интересно, думала моя кора, узнать побольше о человеке, который сумел построить целую науку — как это у него все начиналось, с чего, при каких обстоятельствах? Я потихоньку наводил справки,опрашивал сослуживцев, подбирал свидетельства очевидцев, “фиксировал данные” о работах, отмеченных высшими отличиями — орденом Ленина, Ломоносовской премией, почетными званиями и степенями академий, университетов и научных обществ многих стран. Я сам действовал, как заправский инспектор уголовного розыска. Но мне не хватало собственного признания Лурии — простого, чистосердечного рассказа, как оно все начиналось. Однако Александр Романович каждый раз заводил разговор о Выготском. Сначала, не скрою, мне казалось это гипертрофированной скромностью, некой чудаковатостью, но потом я понял, что таково искреннее убеждение Лурии; время своей научной деятельности он отмеряет с момента знакомства со Львом Семеновичем Выготским. Они встретились в Ленинграде, в 1924 году, на Втором психоневрологическом съезде. На трибуну вышел очень молодой человек— Выготскому в то время не было еще 27 лет. Он говорил более получаса — ясно, четко и логически безукоризненно — о том значении, которое имеет научный подход к сознанию человека, к процессу его развития, об объективных методах исследования этих процессов. В руке Выготский держал маленькую бумажку, на которую изредка бросал взгляд, но когда после выступления Лурия подошел к нему, то увидел, что на ней ничего не написано... Доклад, сделанный Выготским, настолько потряс Лурию, что он, несмотря на молодость лет бывший тогда ученым секретарем Института психологии, сразу бросился убеждать Корнилова, тогдашнего Директора института, немедленно, сейчас же, этого никому не известного человека, приехавшего в Ленинград из Гомеля, переманить в Москву. Лев Семенович предложение принял, и его поселили прямо в институтском подвале. С собой он привез уже готовую рукопись, в которой пытался подойти к психологическим основам обучения и воспитания с новой, объективной стороны. Труд этот, увидевший свет в 1926 году в издательстве “Работники просвещения”, Выготский написал в своем родном городе Гомеле, где после окончания университета преподавал в педтехникуме педагогическую психологию, и именно так — “Педагогическая психология”— называлась его книга. В Москве он поступил в аспирантуру и формально был как бы учеником Лурии и Леонтьева, но сразу же стал, по существу, их руководителем — образовалась знаменитая “тройка”, переросшая затем в “восьмерку”. Никто из входивших 8 эти своеобразные объединения людей не предполагал тогда, что судьба столкнула их с замечательным человеком, который в свои двадцать семь лет был уже сложившимся ученым. Они не знали, что кроме филологического факультета университета Выготский закончил еще университет Шанявского — передовое высшее учебное заведение того времени, что в девятнадцать лет он написал замечательную работу “Трагедия о Гамлете, принце Датском” (она стала его диссертацией) и ряд других хорошо известных сегодня работ (психологический анализ басен, рассказов И. А. Бунина), что до приезда в Москву он успел выработать совершенно новый взгляд на психологию искусства и его роль в жизни человека, по сути дела, заложив основы психологического подхода к литературному творчеству. Сам Выготский об этих своих трудах не упоминал (большой, в пятьсот с лишним страниц том “Психология искусства” вышел в свет лишь через тридцать лет после его смерти), а его товарищам по работе в Институте психологии не приходило в голову, что у Льва Семеновича может существовать еще один обширный круг интересов — настолько глубокими были мысли, которыми он с ними делился, что, казалось, они не могут оставить в сознании человека места ни для чего другого. Мысль Выготского развивалась в совершенно новом для тогдашней психологии направлении. Он впервые показал — не почувствовал, не предположил, а аргументированно продемонстрировал, — что наука эта находится в глубочайшем кризисе. Сейчас издается, наконец, полное собрание его трудов, и в него войдет ранее не опубликованная работа “Исторический смысл психологического кризиса”. В ней взгляды Выготского выражены наиболее полно и точно. Он умирал от туберкулеза, врачи дали ему три месяца жизни, и в больнице он лихорадочно писал, чтобы успеть изложить главные свои мысли. Суть их в следующем. Психология практически разбилась на две науки. Одна — объяснительная или физиологическая, она на самом деле раскрывает смысл явлений, но оставляет за своими границами все сложнейшие формы человеческого поведения. Другая наука — описательная, феноменологическая психология, которая, наоборот, берет самые сложные явления, но лишь рассказывает о них, потому что, по мнению ее сторонников, явления эти недоступны объяснению. Выход из кризиса Выготский видел в том, чтобы уйти от этих двух совершенно независимых дисциплин и научиться объяснять все сложнейшие проявления человеческой психики. И вот тут был сделан капитальнейший шаг в истории советской психологии. Тезис Выготского был таким: чтобы понять внутренние психические процессы, надо выйти за пределы организма и искать объяснения в общественных отношениях этого организма со средой. Он любил повторять: те, кто надеется найти источник высших психических процессов внутри индивидуума, впадают в ту же ошибку, что и обезьяна, пытающаяся обнаружить свое отражение в зеркале позади стекла. Не внутри мозга или духа, но в знаках, языке, орудиях, социальных отношениях таится разгадка тайн, интригующих психологов. Поэтому Выготский называл свою психологию либо “исторической”, поскольку она изучает процессы, возникшие в общественной истории человека, либо “инструментальной”, так как единицей психологии, по его мнению, были орудия труда, бытовые предметы, либо же, наконец, “культурной”, потому что эти вещи и явления рождаются и развиваются в культуре, — в организме культуры, в теле ее, а не в органическом теле индивида. Мысли такого рода звучали тогда парадоксально, они были приняты в штыки и абсолютно не поняты. Не без сарказма вспоминает Лурия, как Корнилов говорил: “Ну, подумаешь, “историческая” психология, зачем нам изучать разных дикарей? Или — “инструментальная”. Да всякая психология инструментальная, вот я тоже динамоскоп применяю”. Директор института психологии даже не понял, что речь идет вовсе не о тех инструментах, которые используют психологи, а о тех средствах, орудиях, что применяет сам человек для организации своего поведения... Культурно-историческая концепция Выготского вызывала активное сопротивление. Стали появляться статьи, в которых автор ее разоблачался в различного рода отклонениях от истинной науки. Одна из наиболее опасных была написана неким Феофановым, сотрудником того же института. Он назвал ее “Об одной эклектической теории в психологии”, но типография напечатала “Об одной электрической теории в психологии”. Эта забавная опечатка сильно снизила убойную силу статьи, но следующие за нею были набраны более тщательно. Новые идеи — как, впрочем, и все истинно новое — непросто входили в науку. А по мнению Александра Романовича (как я теперь понимаю, оно тоже вполне искренне), всю глубину мысли Выготского он начал понимать только спустя полвека. Для этого понадобился длинный и не всегда гладкий путь в науке. Пятьдесят лет непрерывной работы... Поразительная, все-таки, вещь репортерский магнитофон, странное, так до конца и не сделавшееся за годы работы привычным ощущение каждый раз дарит мне этот не такой уж сложный электронный прибор с белыми костяными клавишами. Вот и теперь плавная, живая речь заполняла комнату — я сидел за письменным столом, у себя дома, а за окном будто стояли двадцатые годы. Только что пришел в Институт психологии Выготский и вместе со всей семьей поселился в подвале. И сразу, буквально назавтра было решено строить новую психологическую науку — за меньшее тогда не брались. Три человека —сам Лев Семенович, Алексей Николаевич Леонтьев и Лурия, в духе тех лет назвав себя “тройкой”, взялись “разработать основные комплексы содержания психологии”. То есть — как можно подойти к восчриятию? каким путем изучать память, внимание, волю? — и так далее. Года через два к ним примкнула “пятерка” — молодые тогда студенты Запорожец, Славина, Левина, Божович и Морозова, Выготский к тому времени перебрался из институтского подвала на Большую Серпуховку, и там, в доме 17, происходили заседания образовавшейся “восьмерки”. Кроме того, удалось создать в Академии имени Крупской экспериментальную лабораторию. Она занималась пиктограммой — методом исследования сигнификативной, как говорил Выготский, деятельности — то есть тех мыслительных процессов, что ведут к придумыванию знаков, орудий, инструментов. Заключался этот метод в том, что ребенку давалось какое-то слово и он должен был изобразить его на бумаге. Но слова специально подбирались так, что задача сильно осложнялась: и взрослому нелегко изобразить “счастье”, “мужество”, “верность” или “предательство”. И все-таки дети почти всегда умудрялись создать некий знак. Больше года исследовали пиктограммы у младших и старших школьников, у здоровых и умственно отсталых детей, сравнивали, как они используют знаки. Работа эта так и осталась не только не напечатанной, но даже и не написанной, но именно с нее, по существу, начала создаваться новая школа. Из тех первых исследований выросло очень многое — и в том числе вся нынешняя нейропсихология. Работа далеко не всегда была кабинетной. Выготский хотел найти способ доказать, что все психические процессы имеют историческую природу —так, чтобы это утверждение не звучало до-гадкой, а было экспериментально безусловно подтверждено, и Лурия с Федором Николаевичем Шемякиным провели два лета, тридцатого и тридцать первого года, в Средней Азии, в кишлаках и джайлау — горных пастбищах — Узбекистана. Это был особенный период: отсталый, неграмотный народ, загнанный мусульманством, попадал сразу в условия иной культуры — одновременно шла коллективизация и ликвидация неграмотности. Можно было воочию наблюдать, в какой мере культура влияет на формирование психических процессов. Одни и те же психологические исследования проводили с “ичкари” — неграмотными, забитыми женщинами, живущими под паранджой и ни с кем, кроме своего мужа, не общавшимися, и с колхозными активистами, ребятами, прошедшими краткосрочные курсы. В основе опытов было испытание на классификацию типа “четвертый лишний”, когда надо отбросить один из предметов как несоответствующий трем остальным. Неграмотные кишлачники всегда классифицировали только по ситуационному признаку — например, они никогда не рассматривали топор, пилу и лопату вместе как инструменты, а полено — как вещь, к ним не относящуюся. Нет, они объединяли пилу, топор и полено, а лопата была в их понимании “для другого дела, для огорода”. Если же испытуемому говорили, что вот один человек сказал, что пилу, топор и лопату можно положить вместе, потому что они инструменты, а вот полено как раз сюда не идет, то всегда слышали в ответ о том человеке крайне нелестные слова. Однако стоило этим же людям пройти хотя бы трехмесячные курсы, поработать в колхозе, как они сразу же начинали классифицировать и по абстрактному признаку тоже. Примерно те же результаты дало изучение восприятия. На этот раз в дело пошли привезенные из Москвы картинки, которые вызывают оптико-геометрические иллюзии Выяснилось, что и тут уровень культурного развития определяет все: люди, которым не приходилось до этого рассматривать фотографии и чертежи, кто не привык к изображениям объемных предметов на плоскости листа бумаги, не испытывали зрительных иллюзий, обычных для нас. Лурия, под влиянием этих экспериментов, послал Выготскому телеграмму: “У УЗБЕКОВ НЕТ ИЛЛЮЗИЙ” и немедленно получил от него весьма резкий ответ. ...Александр Романович стал с той поры немного понимать по-узбекски. Но те два трудных полевых сезона принесли ему несравненно больше, чем знание еще одного языка. Огромное количество данных, полученных в Узбекистане, два с лишним года обрабатывалось в Институте психологии, однако только теперь, спустя сорок с лишним лет, вышла его книга “Об историческом развитии познавательных процессов”. В ней использовано всего около четверти собранных тогда материалов... “...Вот так зарождалось все то, чем мы сегодня обладаем. Биографии людей имеют разную структуру. Бывает, что кривая постепенно поднимается и достигает апогея в сорок, пятьдесят, шестьдесят даже лет. А бывают биографии такие, где подскок в раннем возрасте, а потом либо “плато”, либо немножечко опускается. Вот моя биография относится ко второму типу. Самые яркие годы, что я вспоминаю, это двадцатые-—и века, и мои. Там все Связано с Выготским. От себя у меня почти и нет ничего, все от Льва Семеновича, да и не у меня одного, у многих из нас, только одни это признают, а другие — нет...”, звучит из динамика голос Лурии, а я вспоминаю, как согласно склонялись в такт его речи убеленные сединами головы, как бережно листали не очень послушные пальцы пущенные им по залу книги с пожелтевшими страницами, которые он принес, чтобы дать слушателям проникнуться духом того времени, когда они вышли в свет. Повинуясь нажатию клавиш, знакомый голос вновь и вновь произносит одни и те же фразы, чтобы я успел их записать. Нехитрая электроника словно дает мне власть над временем, и, по-фаустовски играя судьбой мгновений, я почти наяву вижу Лурию — но не седовласого, размеренно спокойного, рассказывающего коллегам-психологам о зарождении их нынешней науки, а молодого, импульсивного, в зарождении этом прямо и активно виновного, запомнившегося мне по фотографии, так и не выпрошенной у него в прошлую встречу. ОО Из расшифровки магнитофонной записи: “Заседание московского отделения общества психологов. Москва, Институт психологии, 25 марта 1974 г. Доклад: “Пути раннего развития советской психологии. Двадцатые годы”. Докладчик: проф. А. Р. Лурия, действительный член Академии педагогических наук СССР. ...Мое сегодняшнее выступление посвящено самой ранней истории советской психологии. Хочу предупредить, что оно будет насквозь субъективным, иначе говоря, я стану опираться не на какие-нибудь печатные источники, а на собственные воспоминания. Если в них окажется слишком много личного, прошу заранее извинить меня... Примите во внимание, что я уже вступил в тот возраст, когда любые сообщения носят документальный характер и служат, таким образом, истории. Я начал свой путь в науке с того, что получил прочное, длительное и совершенно безоговорочное отвращение к психологии. "Почему я здесь, в Институте психологии, перед ведущими психологами страны, начинаю со столь странного заявления доклад о науке, которой отдал не один десяток лет? Чтобы понять это, нужно посмотреть, какой была психология в то время, когда я начинал работать, — кстати, такой и осталась классическая психология за рубежом до нашего времени. В первый послереволюционный год я поступил в Казанский университет на довольно странный факультет, который сначала назывался юридическим, потом стал факультетом общественных наук и на котором, скажем, социологию читал профессор церковного права. Я в то время очень интересовался историей различных социальных течений, особенно утопического социализма, и у меня, как у всех молодых людей шестнадцати-сёмнадцати лет, возник ряд проектов, безусловно невыполнимых Прежде всего мне захотелось написать некую книгу, которая состояла бы из трех частей. Первая часть должна отвечать на вопрос о том, как возникают идеи, вторая — как они распространяются и третья — как действуют. Как видите, очень скромный замысел для начала. Естественно, весьма скоро он тихо скончался и говорить бы о нем не стоило, если бы замысел этот не побудил меня обратиться к психологическим источникам и не стал, таким образом, толчком к возникновению у меня стойкого отвращения к психологии, сохранившегося, не скрою, в значительной мере до сих пор. А могло ли быть иначе? Я обратился к лучшим авторам — Вундту, Эббингаузу, Титчнеру и, прежде всего, Гефдингу. Вы знаете эти работы и согласитесь, наверное, со мной, что ничего живого в этих книгах нет, нет там никакой истории идей, никаких фактов о распространении и уж, тем более, воздействии на людей. Ни в этих, ни в каких других книгах по психопогии тех времен и намека не было На живую личность, и скучища от них охватывала человека совершенно непередаваемая. И я для себя сделал вывод — вот уж наука, которой я никогда в жизни не стану заниматься! Но я в это время все еще не отказался от своего дерзкого замысла и обратился к другим источникам, непсихологическим, надеясь хоть там почерпнуть нечто о свойствах идей. Я прочел книжку известного в то время экономиста Брентаио “Опыт теории потребностей” и перевел ее с немецкого — ведь там речь шла о потребностях, которые движут человеческим поведением, а это уже было весьма близко к интересовавшим меня проблемам. Потом я встретился с несколькими весьма интересными людьми. В Казани оказался ассистент знаменитого нашего историка Роберта Юрьевича Виппера, доцент Крутиков. Он высказал ряд мыслей, очень созвучных моим, которые поддержали мое неприятие психологии. Кругликов написал даже книгу “В поисках живого человека”, которую я издал, будучи председателем студенческого общества, носившего название “Ассоциация общественных наук”. Это была очень живая книжка, выражавшая полную неудовлетворенность вот этой безжизненной, безличностной, скучной психологией. Лабораторией психологии в нашем университете тогда заведовал некто Сотонин, который абсолютно ничего интересного собой не представлял, но он держался близкой моему сердцу мысли, что психология должна быть клиникой здорового человека. Я тоже издал его книгу “Темпераменты” — главным образом ради содержавшихся в ней критических замечаний по поводу этой скучной, угнетающей, пустой классической психологии. Мне попалась далее книга, которую никто из вас никогда в жизни не видел, и я сейчас, даже в этой аудитории не без опасения пускаю ее по рукам — вместе с другими книгами, о которых я сегодня уже говорил или еще буду говорить, Этот библиографический раритет написан профессором Николаем Александровичем Васильевым. Называется он “Лекции по психологии, читанные в 1907 году на Казанских высших женских курсах”. Васильев был очень интересный человек — философ, фантазер, но он страдал маниакально-депрессивным психозом. Когда болезнь отпускала его, он читал великолепные, блистательные лекции — частью по психологии, частью по философии, издавал прелюбопытные исследования. Он, например, написал книгу “О воображаемой политической экономии”, в которой задался вопросом, что было бы, если бы люди не старались купить подешевле, а продать подороже, но, наоборот, стремились дешевле продать, дороже купить. Васильев построил такое фантастическое общество и показал, что в принципе оно ничем не отличалось бы от нашего. Так вот, в той книге, что вы сейчас рассматриваете, можно встретить большие разделы о мозге, очень интересные рассуждения о личности — а читаны эти лекции, заметьте, в начале века. Я, к сожалению, не учился у профессора Васильева, а встретился с ним по очень занятному поводу. Дело в том, что в поисках живых источников психологии я, среди других авторов, обратился к Фрейду, которым очень заинтересовался, потому что он имел дело с конкретной, содержательной личностью. Я настолько увлекся его работами, что организовал психоаналитический кружок. Первое, что я, как его председатель, сделал — заказал бланки на русском и немецком языках и послал Фрейду письмо, в котором уведомлял его, что в мире появилась новая организация — Казанский психоаналитический кружок. Через три недели я получил от Фрейда вежливое письмо, начинавшееся “Весьма уважаемый герр Президент...”. “Гёрр Президент”, которому тогда было 19 лет, вскоре получил от Фрейда еще одно письмо —ответ на свою просьбу авторизовать перевод одной из его последних книг. Фрейд нам такую авторизацию дал, и оба эти документа я бережно храню. Так вот, когда я вник в эти источники, где была попытка заняться живым человеком, я задумал другую работу, поскромнее, чем первая, но, как вы сейчас уведите, не намного. Я написал книгу “Принципы реальной психологии”. Существует она в одном единственном экземпляре — это двести с лишним страниц, написанных от руки В ней я дал, так сказать, отток своему отвращению к классической психологии и попытался найти выход из создавшегося в ней положения. Сейчас, через пятьдесят с лишним лет, она кажется мне, конечно, абсолютно детской, но все равно интересной. Я знал, прочитав “Историю философии” Виндельбандта, что существуют науки номотетические— очи изучают закономерные процессы, и идеографические, которые описывают процессы единичные, индивидуальные, не имеющие общих закономерностей. Примером первой может явиться биология, либо химия, физика, математика; примером второй Виндельбандт приводил историю которая, по его мнению, излагает конкретные частные факты, но никакой связывающей их закономерности не обнаруживает. Так вот, какой же должна быть психология? Моя мысль заключалась в том, что ей следует объединять в себе номотетические и идеографические принципы. Ей положено изучать конкретного индивидуального человека, и постольку, поскольку это гак, психология должна быть наукой идеографической. Но ей надлежит не просто описывать, но изучать закономерности, и потому она — наука номотетическая. Психология, получалась у меня, — это наука индивидуальных закономерностей. Написав эту книгу, я понес ее профессору Васильеву. Он, правда, находился в тот момент в психиатрической лечебнице, но уже вышел из состояния депрессии и маниакапьного возбуждения и был абсолютно социабилен. Он прочел мою книгу очень внимательно и дал мне большую на нее рецензию. В ней было сказано, что автор, тщательно взвесив известные проблемы, нашел какой-то путь к их решению, далее шло много вежливых слов, и вывод — после доработки книга заслуживает того, чтобы быть напечатанной. Я, правда, отставил этот вывод без внимания — вложил отзыв Васильева в рукопись, рукопись в папку, и с тех пор она спокойно простояла у меня на полке теперь уже более полувека... Тут мне стукнуло двадцать лет, я посерьезнел, замыслы мои стали менее претенциозными. Все-таки я издал еще одну книгу — вот она, взгляните, — под названием “Психоанализ в свете основных тенденций современной психологии”. История ее довольно своеобразна. У нас был тогда журнал “Казанский библиофил”. Я принес туда обзор книг по психоанализу, его напечатали. Я работал в то время в типографии и взял журнальный набор, разрезал его на соответствующие блоки и вышла книжка, переплет которой, вот этот, серенький, я купил в писчебумажном магазине. В 1923 году, когда я первый раз приехал в Москву, я показал эту книжку Отто Юльевичу Шмидту, жена которого была видным психоаналитиком. Шмидт тогда работал директором Госиздата, и очень скоро книжка моя вышла в свет немалым тиражом — около полутысячи экземпляров. К психоаналитическим проблемам я вернулся позже, когда стал москвичом и когда ясно понял, насколько ложной была моя первоначальная оценка психоанализа. А пока в Казани одновременно с этим, так сказать, литературным интересом к живому человеку, я начал и кое-какие экспериментальные исследования. Я поступил лаборантом в Институт научной организации труда, и мои первые, наивные опыты были проведены в типографии, где я работал,— я изучал утомляемость рабочих в словолитне. Здесь, как известно, большая интоксикация металлом. И еще была одна работа — рефлексологический метод исследования внушаемости. Обе эти работы были не только проведены, но и напечатаны — и это еще одна история, вроде бы и личная, но она в то же время принадлежит, как и прочие, истории нашей психологии — только потому я их сегодня вам и рассказываю. Скромности у меня было, конечно, немного — я решил издавать журнал. Для этого я обратился к известному физиологу, тогда уже старику, профессору Миславскому, который жил в Казани, а потом поехал в Ленинград к Бехтереву, и предложил обоим быть редакторами этого журнала, а сам я предполагал быть его секретарем. Представьте, оба согласились! Бехтерев поставил одно только условие — чтобы в титул журнала, который я назвал “Вопросы психофизиологии и гигиены труда”, было добавлено еще слово “рефлексологии”. Вышло целых два номера такого журнала— как видите, на желтой бумаге, потому что никакой вообще не было, и я поехал на мыльный завод Крестовникова и раздобыл оберточную бумагу. Но смотрите — здесь есть статьи Бехтерева и его сотрудников, еще кое-какие материале, в том числе те две мои экспериментальные работы, про которые я вам говорил. И опять — не стоило бы ворошить в памяти те дни и дела, но они стали началом работ долгих лет. Опыты, которые вел я по внушаемости, были предельно просты. В руках моих оказался хроноскоп, и вот я его приспособил измерять скорость реакции. Сначала я ее измерял просто так, а потом говорил испытуемому: “Ваши руки тяжелеют, ваши глаза слипаются, вам хочется спать...” И так далее, как это всегда делается, И выяснилось, что скорость реакции сильно уменьшается. Я стал думать, что рост вот этого латентного периода можно считать мерой внушаемости человека. А тут мы в своем Институте научной организации труда раздобыли динамоскоп Корнилова. Он, как вы помните, представляет собой просто изогнутую стеклянную трубку с ртутью, и если нажимать на соответствующий ключ, под которым стоит баллон, можно измерять не только скорость, но и интенсивность реакции. И тут я подметил один любопытный факт. Кривая этого динамоскопа, записанная на закопченный барабан, носила правильный характер. Но иногда, в тех случаях, когда человек давал аффективную реакцию, то есть, если условия опыта были ему почему-либо небезразличны, кривая на барабане принимала неправильную форму. Факт этот сыграл впоследствии в моей жизни очень большую роль, но я ещё тогда про это ничего не знал, а написал в Москву Корнилову письмо, в котором сообщал, что прочел его книгу по реактологии, нахожу ее интересной и прилагаю при сем свои собственные работы в том же направлении. И внезапно получаю от него приглашение приехать а Москву, которое меня просто поразило, хотя на самом деле все было весьма просто. Корнилова в это время как раз назначили директором Института психологии вместо Челпанова, которого, наконец, “ушли”. Опираться ему было совершенно не на кого, а тут какой-то молодой парень из провинции тоже работает с динамоскопом — отчего же его не пригласить? С осени 1923 года я стал сотрудником того самого Института психологии, в котором мы сейчас с вами собрались. Как ни странно это звучит, но меня сделали ученым секретарем. Я сразу попал в самую гущу событий. Предполагалось, что институт наш должен перестроить всю психологию, отойти от прежней, челпановской идеалистической науки и создать новую, материалистическую, Корнилов даже говорил — марксистскую психологию. По его мнению, следовало заниматься не субъективными опытами, а объективным исследованием поведения — в частности, двигательных реакций, для чего и предназначался его динамоскоп. Пока же перестройка психологии протекала в двух формах: во-первых — переименование, во-вторых — перемещение. Восприятие мы назвали, кажется, получением сигнала для реакции, память — сохранением с воспроизведением реакций, внимание — ограничением реакций, эмоции — эмоциональными реакциями, одним словом, всюду, где можно и где нельзя, мы вставляли слово “реакция”, искренне веря, что делаем при этом важное и серьезное дело. Одновременно мы переносили мебель из одной лаборатории в другую, и я прекрасно помню, как я сам, таская столы по лестницам, был уверен, что именно на этом пути мы перестроим работу и создадим новую основу для советской психологии. Этот период интересен своей наивностью и своим энтузиазмом, но, естественно, скоро он пришел в тупик. Расхождения с Корниловым начались почти сразу, его линия нам не нравилась, но работы в институте должны были вестись — вот они и шли, и привели впоследствии к весьма любопытным результатам. Меня пригласили для того, чтобы я занимался реакциями, а у меня был тогда сильный интерес к психоанализу. Вот тогда и созрела мысль: нельзя ли создать объективный психоанализ, то есть сделать так, чтобы аффективные переживания и аффективные комплексы выражались бы в некоторых вполне объективных показателях — скажем, в реакциях? Динамоскоп тут уже становился слишком грубой машиной, я его заменил так называемым “Ермаковским аппаратом”. Это была пневматическая табличка с наклеенной на нее алюминиевой пластинкой, применялся он для исследования динамических компонентов письма: человек писал поверх пластинки, а пневматический приемник отражал нажим, а дальше все записывалось на барабанчике. Это был уже куда более живой прибор — он показывал характер, форму реакции, степень уверенности человека и тому подобные важные вещи. С его помощью и создалась теперь ставшая уже классической сопряженная моторная методика. Смысл ее был вот в чем. Испытуемого сажали за пульт, обе его руки были каждая на этом самом ермаковском регистрирующем приборе, но одной он работал, а другой — нет. Работа заключалась в том, чтобы нажимать пальцем на приборчик, одновременно придумывая любую, произвольную ассоциацию на каждое слово, которое мы ему говорили. Мы записывали латентный период — время, в течение которого испытуемый искал соответствующую словесную реакцию, и характер двигательной реакции — степень нажима, интенсивность его, форму и т. п. Оказалось, что методика эта, при всей ее кажущейся простоте, очень богатая—я считаю, что она до сих пор не утеряла своего значения и часто жалею о том, как мало сейчас применяют ее. Выработка словесной реакции— сложнейший нейродинамический процесс, и он затрагивает все виды деятельности. Если слово, на которое испытуемый должен реагировать, не вызывает у него никаких эмоций, то латентный период мал и нажим ровен. Но стоит лишь назвать любое слово, окрашенное для испытуемого определенным образом—скажем, “бормашина” для того, у кого ноет зуб, и сразу задерживается словесная реакция и нажим становится неупорядоченным. Мы убедились, что сопряженная моторная методика способна улавливать такие аффективные состояния, и лаборатория, которую я получил, так и стала называться “Лаборатория исследования аффективных реакций”. У меня было несколько молодых людей, среди них нынешний декан психологического факультета МГУ Алексей Николаевич Леонтьев. Он проявил тогда свою великолепную изобретательность, построив прекрасно работавшее кибернетическое устройство, которое все за нас делало. Мы работали тогда в гораздо более просторных помещениях, чем сегодня, и могли себе позволить положить в одну комнату испытуемого на кушетку, продырявить стену в соседнюю и там расположить нашу длинную ленту, которую коптил всегда бывший навеселе единственный технический работник института, он же лаборант и препаратор. Алексей Николаевич перо сделал металлическим, а в ленте прорезал окошечки. И вот когда перо замыкалось на металлический барабан, возникал электрический сигнал, на который испытуемому следовало отвечать некими свободными ассоциациями, нажимая при этом на рычаг аппарата. Мы запускали эту технику и уходили, а потом обрабатывали результаты опытов, и получали возможность видеть, когда человек приближается к какому-нибудь из своих аффективных комплексов. Сначала мы брали первых встречных испытуемых, а потом стали использовать ситуацию экзаменов с ее ярко выраженным аффективным комплексом. Студентам давались разные раздражители — нейтральные: “окно”, “лампочка”, “цветок”, и аффективные: “экзамен”, “провал”, “двойка”. Затем опыты наши стали еще более острыми. В этой самой аудитории, где мы сейчас сидим, происходили чистки студентов. И вот мы перед самым моментом, как бедному студенту идти на комиссию, которая должна была либо его оставить в университете, либо вычистить, проводили с ним эксперимент, где в число слов-раздражителей вставляли “чистка”, “метла”, “университет” и другие, всегда вызывавшие достаточно резкие аффективные реакции. Эту работу мы делали совместно с Алексеем Николаевичем Леонтьевым и опубликовали ее в маленькой книжке “Экзамен и психика” и в ряде научных статей. Дальше оказалось, что эта методика вполне пригодна и для изучения неврозов. Невротик с аффективными комплексами дает очень красивую, гораздо более выразительную кривую, чем нормальный человек. Мы. стали работать в Клинике нервных болезней имени Россолимо и кое-что сумели там сделать, но это разговор особый. А сейчас я хочу раскрыть совершенно неожиданный секрет. Сопряженная моторная проба оказалась полезной еще в одной области — криминалистике. Она позволяла обнаружить следы преступления, оставшиеся в психике испытуемого. Мы исходили из того предположения, что если человек, скажем, совершил убийство и скрывает это, то атрибуты убийства у него непременно аффективно окрашены. Он больше всего боится как бы не выдать себя, и, естественно, все слова, вызывающие у него воспоминания об убийстве, приведут к аффективным комплексам, которые мы умеем улавливать в своих записях. Поначалу мы эту идею проверили на искусственных опытах со скрыванием, которые были построены весьма элегантно. В группе испытуемым из пяти человек двум читался неизвестный мне рассказ. Мне давался лишь список слов, к этому рассказу относящихся и нейтральных к нему, а я должен был установить, кому рассказ прочитан и в чем его содержание. Как бы тщательно ни скрывали испытуемые свою “причастность” к рассказу, я без труда находил двоих “преступников” из пяти, потому что слова “церковь”, “окно”, “взлом”, “крест”, “цепь” и другие, по которым я мог судить о детективной стороне рассказа, вызывали у них объективные симптомы. Нам, естественно, захотелось проверить все это в реальной обстановке. Тогда время было в этом отношении легкое— не требовалось многих лет усилий и подачи бесконечных заявлений в разные инстанции, я просто пошел в московскую прокуратуру, изложил там нашу идею, и довольно скоро была организована лаборатория, нам даже дали помощника — молодого тогда следователя по особо важным делам Льва Шейнина, известного ныне благодаря своим литературным трудам, в которых, кстати, этот период его деятельности, кажется, не воспет. Нам давали изучить дело об убийстве и привозили подозреваемых еще до допроса. Мы выделяли аффективные слова, которые могли иметь отношение к ситуации преступления, — например, если человек убил кого-нибудь молотком и запрятал труп в кучу угля, то “молоток” и “уголь” были для него словами аффективными. Спрятав их среди нейтральных слов, я мог рассчитывать, что именно на этих двух словах преступник споткнется и даст мне симптомы аффективных реакций. План наш удался полностью. Из Киева прямо к нам в лабораторию привезли пятерых подозреваемых. Мне говорили, что узнать, кто из них преступник, невозможно, потому что все пятеро испытывают аффекты, раз их арестовали. Это, конечно, было верно, но дело в том, что у одних аффект концентрирован в следах преступления, а у других, не замешанных в нем, — нет. И мы прекрасно выявили двух виновных. Правота наша впоследствии подтвердилась. Мы ещё несколько раз участвовали в подобной работе и опубликовали результаты этих исследований в журналах “Советское право” и “Научное слово” в 1926 году. Но это были лишь крохи того, что мы сделали, от того периода осталась большущая ненапечатанная рукопись, которую я недавно передал в Институт криминалистики и там, по-моему, она вызвала интерес. Дело, видите ли, в том, что из этих работ родился детектор лжи. Только американцы, легкомысленно схватив идею, не усвоили ее суть и потому извратили. Поэтому их детектор лжи построен на изучении вегетативных реакций и не использует сопряженную моторную методику, а ведь именно в ней весь фокус! На движении руки выявляются следы аффективных комплексов только в том случае, если движение это сопряжено с речевым ответом. Экспериментально было показано: когда оба эти действия разобщены —раньше отвечает, потом нажимает, или же, наоборот, раньше нажимает, потом отвечает, — то никаких симптомов не возникает. Нужна сопряженность, чтобы следы аффекта проявились. Американцы этого не учли, и у них детектор вышел намного хуже, чем у нас. Методика наша тогда не пошла, но в последние пять-шесть лет криминалисты вновь заинтересовались ею. Нас, конечно, криминалистический выход этих работ волновал в последнюю очередь. Мы наметили серию теоретических исследований, которая отвечала трем задачам. Сначала надо было изучить объективные следы аффектов и аффективных комплексов — об этом я вам уже рассказывал. Потом - создать искусственные аффекты и тем самым подойти к их механизмам и, наконец,— научиться овладевать этими аффектами, регулировать их. Чтобы решить вторую задачу, мы воспроизвели на человеке опыты, которые Павлов ставил с животными, создавая у них конфликт. Испытуемому, например, задавался вопрос, на который он явно не мог ответить за недостаточностью сообщенных ему фактов, или же ему запрещалось произносить слово “красный”, а надо было назвать цвет помидора или флага. От этих опытов мы перешли к искусственным конфликтам, внушенным в гипнозе. На этой стадии в лаборатории начали работать два очень любопытных человека — оба пожилые, оба гипнотизеры. Один был доктор Йолес, он приехал из Парижа, а другой — Забрежнев, который с 1896 года был анархистом, а потом стал большевиком. Между прочим, поработав у нас, он переехал в Ленинград и стал там не больше и не меньше, как директором Эрмитажа. Так вот, эти два моих сотрудника усыпляли испытуемых, внушали им какое-нибудь аффективное переживание, а потом, когда тех пробуждали, мы должны были это переживание обнаружить с помощью своей сопряженной моторной методики. Острота опыта заключалась в том, что сам испытуемый ничего о своем переживании не знал и не помнил, а оно все равно проявлялось очень ярко. И, наконец, мы перешли к третьей части этих опытов — из них родилась вся наша остальная работа, которой мы занимались последующие сорок лет. Теперь мы хотели не просто изучать аффекты, но овладеть ими. И тут выяснилось, что если человек найдет речевой выход, речевое решение мучающей его проблемы, то аффект устраняется. Например, ставился такой эксперимент. Испытуемому-алкоголику мы внушали в гипнозе, что он должен скрывать свою болезнь, а когда проснется, то надо нарисовать что-нибудь на тему пьянства. Пробудившись, он начинал лихорадочно, страшно спеша, со страстью рисовать совершенно растерзанный какой-то рисунок. Если же вы внушали испытуемому, что он должен изобразить свое страдание в символической форме, то он очень спокойно рисовал зеленого змия и никакого аффекта тут не было. И тогда же родилась идея, что при речевой организации аффект может быть преодолен благодаря тому, что он переводится на более высокий психический уровень. Эту идею, мы долгие годы проверяли и развивали вместе с Евгенией Давыдовной Xомской, написали несколько книг, некоторые из них вышли совсем недавно. А тогда, в 1925 году, работы эти были напечатаны в весьма авторитетном немецком журнале “Психологише Форшунг” и доложены мною на IX Международном психологическом конгрессе в Йельском университете спустя еще четыре года. В 1932 году в Америке вышла большая моя книга, где полученные результаты обсуждались куда подробнее. Я назвал ее “Аффект, конфликт и воля”, но издатель посчитал такой заголовок слишком специальным и придумал вместо него другой — “Конфликт человеческой природы”. Конечно, это звучало броско, но не отвечало содержанию книги, и я предложил перевернуть слова. Книга так и появилась под заголовком “Природа человеческого конфликта”. Частями она напечатана была и на русском языке. Из-за этого я, кстати, окончательно поссорился с Корниловым — он проявил вдруг власть и запретил печатать мою статью “Опыт объективного психоанализа”, которая была уже в корректуре. Слово “психоанализ” тогдашнему директору этого института показалось страшным. Я потому столь подробно говорю об этих работах, что они подвели меня к совсем новому этапу, связанному с Львом Семеновичем Выготским. Всю свою биографию я делю на два периода: маленький, несущественный — это до встречи с Выготским, и большой и существенный — после встречи с ним. И поэтому и в первом этапе своей работы я ценю главным образом то, что привело меня к последующему пониманию смысла и задач психологической науки... Но позвольте мне закончить с рассказом о трудах тех далеких лет, пока я работал самостоятельно и не приобрел такого выдающегося учителя, как Лев Семенович. К этому же, малоинтересному периоду, относятся и мои психоаналитические увлечения. Приехав в Москву, я стал — в возрасте двадцати одного года — ученым секретарем Русского психоаналитического общества, председателем которого был профессор Ермаков (тот самый, чьим прибором я воспользовался для опытов по сопряженной моторной методике). Нам дали прекрасный дом — особняк Рябушинского, где после жил Горький, я получил великолепный кабинет, оклеенный шелковыми обоями, и страшно торжественно заседал в нем, устраивая раз в две недели заседания психоаналитиков. На первом этаже особняка помещалось наше психоаналитическое общество, а на втором — психоаналитический детский сад. Большого воспитательного эффекта работа наша не дала, но возможность заниматься интереснейшими проблемами науки в идеальных условиях мы на какое-то время получили. К этому же периоду относится и еще одна страница моей научной биографии. С 1923 года я стал работать в Академии коммунистического воспитания имени Крупской. Это было довольно занятное зрелище: молодой парень, двадцати двух лет, беспартийный, заведует лабораторией и руководит кафедрой психологии в комвузе, в который принимали только довольно взрослых партийных активистов. У меня было немало интереснейших студентов... Я начал еще одну работу, результатом которой явились два тома — “Речь и интеллект в развитии ребенка” и “Речь и интеллект у городского, деревенского и беспризорного ребенка”, Я нацело, напрочь забыл про них и только теперь, спустя сорок с лишним лет понял, что там была сделана довольно интересная вещь. Дело в том, что детям разных возрастов предлагалось, услышав слово, произнесенное экспериментатором, сказать первое, что приходит в голову. Время задержки реакции — латентный период — замерялось секундомером. Выяснилось, что реакции встречаются двух сортов. Или она предикативная: “дом — горит”, “собака — лает”, “кошка — мяукает”, либо — ассоциативная: “собака — кошка”, “облако— луна”, “дом — дверь”. Латентный период первых реакций оказался очень небольшим и разброс его у разных детей был тоже мал: от 1,4 до 1,6 секунды. А вот ассоциативные реакции имеют чрезвычайно большой разброс латентных периодов, и само время задержки тоже много больше. И только сейчас, занимаясь всерьез лингвистикой и готовя книгу “Основные проблемы нейролингвистики”, я узнал, что есть в языке два типа связей, синтагмические и парадигматические. Синтагмические — это единицы речи: “собака лает”, “девочка пошла в кино”, “хлеб покупают в булочной”; парадигматические—это логические связи типа “Сократ — человек”, “брат отца”, “мамина дочка”. Установлено, что синтагмические связи вызревают намного раньше, — это ведь элементы живого языка. А вот парадигматические связи — искусственная вещь, она приходит к человеку много позже, и латентные периоды в наших опытах прекрасно это показывают. Вот чем сегодня интересна та старая книга. А вторая книга была как бы дополнением к первой. Проблемой ее было изучить, с каким разнообразием дают ответы на одно и то же слово разные дети — городские, деревенские, беспризорные. Выяснилось, что у деревенского ребенка разнообразие крайне небольшое—страшно стандартный быт, опыт жизненный в деревне бедный; у городского ребенка это разнообразие побольше и совсем большое —у беспризорного. Много позже я узнал, что подобные работы делались в других странах. Вы видите, что в тот период было сделано в нашей психологии довольно много, но не слишком интересных вещей. Институт психологии в двадцатые годы под руководством Корнилова был чисто реактологическим институтом. Но именно в нем действительно начала создаваться настоящая, а не мнимая марксистская, психология. Правда, случилось это позже и было связано с приходом в институт Выготского...”. 4. ВСЕГДА ПОЛНЫЙ ЗНАЧЕНЬЯ “Прошедшие сто лет дали целую плеяду гениев в области изучения головного мозга. Самые известные из них: И. П. Павлов, сэр Чарлз Шеррингтон, сэр Джон Экклс, А. Р. Лурия, Уайлдер Пенфилд и Карл Прибрам. Эти люди помимо незаурядного интеллекта обладали поразительной особенностью: каждый из них в различной степени после 40 или 50 лет, посвященных опытам и пристальному изучению человеческого мозга, пришел к религиозному или мистическому взгляду на жизнь”. Так открыл большую подборку, посвященную механизмам головного мозга, первый номер журнала “Америка” за 1977 год. Слова эти настолько рассердили Лурию, что он немедленно написал излишне, на мой взгляд, резкую статью для “Литературной газеты”, которая и называлась полемически: “О мозге — без мистики”. Сначала Александр Романович расправился с незадачливым составителем подборки, неким Майклом Ароном (журнал, словно напрашиваясь на ехидную реплику, представил его как бывшего баскетболиста, выступавшего за сборную Филадельфии, а затем — за команду Гарвардского университета, которому понадобилось всего два месяца для подбора материалов о мозге), далее в статье речь шла о каждом из названных Майклом Ароном ученых. Карл Прибрам, с которым Лурия хорошо знаком, был полностью реабилитирован: “...талантливый американский психолог, который посвятил много лет анализу механизмов мозга, включая механизмы разумного поведения животных. Советский читатель может ознакомиться с его взглядами по двум его книгам, переведенным на русский язык, — “Планы и структура поведения” (1965 г.) и “Языки мозга” (1975 г.)... Насколько я его знаю лично, он вообще весьма далек от религиозности и мистики; Уайлдер Пенфилд * частично оправдан: “выдающийся нейрохирург и экспериментатор... он оказался не в состоянии научно подойти к решению вопроса о мозговых механизмах разумного мышления и в своей книге “Тайны мозга”, которую он выпустил в 85-летнем возрасте, не нашел ничего лучшего, как вернуться к беспомощным позициям своего учителя — Шеррингтона”; Джон Экклс заслуживает особого к себе отношения и понимания, поскольку на его взгляды влияло, что он с детства был ревностным католиком; Иван Петрович Павлов в защите от Майкла Арона не нуждался, а в порядке убедительной “самозащиты” Александр Романович просто рассказал о своей работе и ее результатах. * С ним Александру Романовичу тоже довелось поработать совместно. Вот как рассказывает он о тех днях, когда все лучшие силы мировой науки были брошены на то, чтобы вернуть к жизни и работе академика Ландау: “...Я имел возможность наблюдать одного известного советского физика, который получил черепно-мозговую травму и который не мог слышать и говорить. Хирурги, обследовавшие его, считали отсутствие речи афазией и предполагали у него наличие гематомы, которую следовало удалить. Я решительно возражал против этого и был рад, когда получил поддержку У. Пенфилда, ибо нам обоим казалось, что дело идет не об афазии (основной характерный признак заключался в том, что больной даже не пытался говорить) и что здесь мы имеем дело с функциональным торможением речи, ее временной блокадой. Мы взяли на себя смелость утверждать, что больной станет! говорить через короткий промежуток времени без всякой специальной помощи, и наши ожидания блестяще оправдались, когда через две недели я смог говорить с ним сразу на нескольких языках, равно сохранных у него”.Оставался один лишь Чарлз Шеррингтон, которого Лурия хотя и считает “бесспорно, самым выдающимся зарубежным физиологом конца XIX и начала XX века”, но признает заслуживающим выдвинутых обвинений и, таким образом, еще и в “совращении” Пенфилда: “Много лет отдал он изучению мозга. Однако под конец своей жизни — уже в восьмидесятилетнем возрасте —он оставил экспериментальную работу и начал заниматься философскими вопросами о взаимоотношении души и тела. Результатом этого периода было появление двух книг престарелого Чарлза Шеррингтона: “Мозг и его механизмы” (1934 г.) и “Человек о своей природе” (1941 г.). Целиком попав в плен идеалистической философии, строго отделявшей “дух” от “тела”, он пришел к выводу, что никакие поиски того места, где “сознание входит в мозг”, или “тех нервных образований, которые генерируют сознание”, не приводят к результатам. Он пытался решить вопрос “о мозге и психике” со старых дуалистических позиций, выдвинутых еще в XVII веке французским философом Декартом”. Так было сказано в “Литературке” о человеке, которого называют часто автором “Библии современного идеализма”. Слова эти, конечно, справедливы, хотя... хотя существует одна гипотеза, милая моему сердцу — и тем, что она многое мне объясняет, и тем, что я могу считать себя причастным к ней, самым, правда, косвенным образом, но главное, конечно, тем, что она бросает совсем новый отблеск на все рассуждения о религиозности и мистицизме, якобы связанные с изучением мозга. Придумал ее Дмитрий Антонович Сахаров, доктор биологических наук и поэт, а для меня прежде всего —старинный друг. Не раз и не два рассказывал он мне вчерне сюжет этой почти детективной истории, в которой действуют два великих физиолога, Павлов и Шеррингтон, и, наконец, я сумел подвигнуть его изложить ее на бумаге в виде статьи для журнала, где я работал, и позволить мне быть редактором получившегося произведения. Статья названа была “Хитроумности сэра Чарлза” и наша разборчивая и привередливая редакция единогласно признала ее лучшим материалом года. Итак, в чем подоплека непонятных, страстных, талантливых, но лишенных всякого видимого смысла нападок Чарлза Скотта Шеррингтона на работы Ивана Петровича Павлова по исследованию физиологического механизма сознания? Отчего столько сил тратил он на то, чтобы дискредитировать условные рефлексы? “Невролог, всю жизнь проевший зубы на этом деле, до сих пор не уверен, имеет ли мозг какое-нибудь отношение к уму?” — недоумевал Павлов, Шеррингтон, получивший в 1932 году Нобелевскую премию именно за исследования в области рефлексов, автор многих работ по локализации функций в коре головного мозга, увлеченный этой темой еще со студенческих времен, ученый, чьи работы положили начало изучению функциональной организации мозговой коры объективными, физиологическими методами, — и вдруг: “мы должны считать проблему связи разума с мозгом не только нерешенной, но и лишенной всякого основания для ее решения”! Абсурдно, невероятно... Ведь тот же Уайлдер Пенфилд, снискавший себе мировую славу, обнаружив в височных долях коры головного мозга точки, раздражая которые слабым электрическим током, можно вызвать у пациента ощущения событий, некогда с ним происходивших, Пенфилд, пока еще не достигший своего рокового 85-летия и увлеченно ставящий один эксперимент за другим, каждый раз наблюдая четкую, безусловную связь конкретных участков мозга с памятью, одним из важнейших элементов сознания, этот самый Пенфилд писал: “И часто теперь бывает, что во время операции, когда совсем на виду лежит перед тобой мозг сохраняющего сознание пациента и это счастливое обстоятельство дает в руки возможность пролить свет на физиологические механизмы, мне чудится, что учитель стоит позади и заглядывает через мое плечо”. Нелепость, алогизм... Знаменитый шеррингтоновский дуализм нарочит, неестественен, ходулен. “У него, и в самом деле, — что ни строчка, то идеализм, — писал Сахаров, — настоящий идеализм, а не такой, что находили то в теории относительности, то в генетике, то в кибернетике. Идеализм Шеррингтона настолько гол и неприкрыт, что ошибиться просто, невозможно. Даже многие западные ученые-естественники, не имеющие диплома философов-материалистов, и те квалифицируют построения Шеррингтона как дуалистические”. Для ученого такого ранга — необъяснимо. Еще менее доступно пониманию поведение Шеррингтона, когда он навестил Ивана Петровича в его лаборатории. “Птица, ищущая свое гнездо, использует прошлый опыт так, как не может сделать рефлекс”,—утверждает сэр Чарлз, но Павлов создает и вновь разрушает в своих экспериментах поведение именно такого рода — экспериментально доказывает, что условные рефлексы “могут сделать” то, в чем им отказывает Шеррингтон! Что же англичанин—стремится поставить совместный опыт, найти методологическую ошибку, опровергнуть результаты своего оппонента? Ничуть не бывало—он отделывается бессмысленной, по сути дела, шуткой: “Теперь я могу понять христианских мучеников...”. Еще несуразнее история произошла, когда Павлов вернул визит. “Я был в Лондоне, сообщал он, — на юбилее Лондонского Королевского общества, и мне пришлось встретиться с лучшим английским физиологом-нейрологом Ч. С. Шеррингтоном. Он мне говорит: “А знаете, ваши условные рефлексы в Англии едва ли будут иметь успех, потому что они слишком пахнут материализмом”. Ну что это за разговор? Какое там “слишком пахнут”?! И уж совсем несусветной чушью выглядит попытка Джона Фултона, американца, ученика Шеррингтона, приписать своему учителю честь открытия условных рефлексов. Приоритет Павлова легко отстояли — продемонстрировали малоизвестные иностранцам ранние публикации его лаборатории, но весь фокус в том, что в статье Шеррингтона 1900 года, упомянутой Фултоном, и в самом деле описывается реакция животного, предваряющая ход событий, — то есть особый рефлекс, названный Павловым “условным”, тот самый, что Шеррингтон впоследствии с такой загадочной яростью отвергал! И даже в 1950 году, когда главный его научный противник уже четырнадцать лет покоился в своей могиле на ленинградском Волковом кладбище, страдающий от артрита девя-остотрехлетний упрямый старик нашел в себе силы выступить на симпозиуме по физиологическим механизмам сознания. Он не изменил себе ни на йоту. “Две тысячи лет назад Аристотель задавался вопросом: как же сознание прикрепляется к телу? Мы все еще задаем тот же вопрос”, — закончил он свою речь, прозвучавшую очевидным анахронизмом для ученых, перед которыми давно уже стояли совсем иные вопросы. “Я чересчур зажился на свете, — пожаловался Шеррингтон Джону Фултону, тому самому, что пытался сделать его первооткрывателем условных рефлексов,— но зато я пережил Джорджа Бернарда Шоу”. Едва ли это неожиданное добавление случайно — видимо, на память ему пришли едкие остроты великого соотечественника, который не желал мириться с трагикомической позой, выбранной для себя Шеррингтоном, и писал, например, в “Приключениях чернокожей девушки, отправившейся на поиски бога”, явно его пародируя: “Разум меня не -интересует. По правде говоря, я не знаю, что это такое, и у меня нет оснований думать, что он вообще существует... Стоит ли губить собственную душу и калечить чужие ради того лишь, чтобы узнать нечто новое о собачьей слюне?”. ...Так что же за объяснение можно измыслить для всей этой фантасмагории? Лучшее, что я могу сделать — позволить себе длинную цитату из “Хитроумностей сэра Чарлза”. Автор, надеюсь, простит меня по старой дружбе: “Загадка осталась бы непостижимой, когда бы Шеррингтон не проговорился. Но он проговорился. Однажды. Признание, которому не придали значения ни последователи, ни преследователи, ни нейтральные комментаторы Шеррингтона, мы находим в его известной лекции, читанной в 1934 году в Кембридже. | Речь шла о том, можно ли исследовать механизм сознания, о том проклятом вопросе, который он задавал всегда, чтобы в конце сказать, что такой возможности наука не дает. Наверно, ему самому надоело это доказывать, тем более, что с каждым годом доказывать эту идею становилось все труднее и труднее. И тут вдруг Шеррингтон заметил, что предмет этот такого свойства, что он может сурово отомстить за чересчур поспешное обращение с ним. Это был совсем новый поворот. Вместо привычного — возможно или невозможно исследовать сознание? — было сказано: а нужно ли его исследовать или, может быть, лучше не нужно?.. Легко себе представить, продолжал Шеррингтон, что человек, узнавший, каким способом думает мозг, решит улучшить его работу. Владея механизмами, он начнет их переиначивать, дополнять, либо упрощать на манер, который ему покажется более совершенным в сравнении с тем, что изобрела природа. И легко себе представить, что новые механизмы в самом деле окажутся лучше старых. Но это будет уже не человеческое сознание. Тогда человеку придется покинуть сцену. Настанет новая эра. “Вы уж меня простите,— заключил Шеррингтон, — но я хотел бы надеяться, что новое господство не будет чем-то вроде общественных насекомых”. Тут он, как бы опомнившись, вернулся к прежней песне о том, что сознание исследовать невозможно, — но слово было произнесено! И все становится на свои места. Все обретает мотив. И отказ от исследования высших отделов мозга, и нападки на Павлова, и многолетние старания выстроить более или менее правдоподобную философскую систему, призванную помешать физиологическому изучению механизмов сознания, и не совсем логичные поступки, и, порой, совсем нелогичные умозаключения”. Вот в таком необычном виде — Великим Мистификатором — увидел Дмитрий Антонович Сахаров сэра Чарлза Шеррингтона. “Если кто из вас думает быть мудрым в веке сём, тот будь безумным, чтобы быть мудрым”, — слова эти написаны не один десяток веков назад, святой апостол Павел, если верить Библии, обратился с ними к коринфянам. Что же удивительного, если старый мудрец прислушался к этому совету? Красивая гипотеза — и убедительная, для меня, во всяком случае. Не мистика, не религиозность — нечто совершенно иное приходит с годами к каждому, кто напряженно и неустанно пытается понять механизм работы мозга. У Маурица Корнелиса Эсхера, голландского художника, среди его странных, необычных работ есть одна—самая, быть может, удивительная *. * Она репродуцирована на второй странице обложкиВ “Картинной галерее” юноша любуется гравюрой, на которой изображена набережная и дома вдоль нее; первый этаж одного из них представляет собой застекленную галерею, в ней развешены картины — в том числе и та, что рассматривает юноша, — да и сам он, к своему удивлению (или ужасу?), стоит в этой галерее, любуясь гравюрой, на которой изображена набережная и дома вдоль нее и среди них тот, в котором стоит он сам! Наш человеческий мозг не может не испытывать подобного замешательства, пытаясь постичь самого себя — воистину “человек несмысленный не знает, и невежда не разумеет того”. Не мистика, нет, скорее — благоговение, робость, острое осознание огромности задачи, тяжести, непосильности взятого на себя труда и своей ответственности перед людьми — а тут еще бремя лет, неизбежные мысли о скоротечности жизни... ...Апрельский номер “Литературной газеты” со статьей Лурии лежал у меня в портфеле, а сам я ехал в Репино — там, под Ленинградом, собиралось одно очень интересное для меня совещание. У входа в недавно открытую туристскую гостиницу, которую сделали местом сбора ученых, стояли два огромных куба с надписью “IМАI”. Туристы смотрели на них с недоумением — до первомайских праздников оставалось еще добрых две недели. На самом же деле буквы эти означали “International Meeting on Artificial Intelligence” — “Международное Совещание по Искусственному Интеллекту”. Вот и сбылись, казалось бы, опасения мудрого Шеррингтона — прошло всего четверть века с той поры, как он перестал отговаривать своих коллег исследовать механизм работы живого мозга, а за это время люди замахнулись уже на то, чтобы создать своими руками мозг искусственный. Нас перестала уже не только пугать, но даже удивлять перспектива оказаться когда-нибудь в обществе осмысленных роботов, разговоры о грядущей цивилизации думающих машин, которая сменит нас, слабых, недостаточно разумных и вовсе неприспособленных к жизни без кислорода, тепла, пищи, — эти чудовищные по сути своей, апокалиптические разговоры ведутся теперь уже на технологическом уровне: в деталях обсуждаются частные проблемы, намечаются конкретные сроки. Вот и нам в Репино раздали огромные анкеты, в которых требовалось указать, когда, по мнению участников конференции, будет сделано то-то и то-то: искусственный математик, скульптор, музыкант, архитектор, литератор; детальнее; поэт, прозаик, эссеист; нам предлагалось заполнить графы, в которых стояли, например, слова “Робот-солдат, способный стрелять из различного оружия и поражать силы неприятеля — предполагаемое время создания опытного образца, серийного производства, широкого использования”. Неужто именно такие видения смущали сон Чарлза Шеррингтона? В начале века, когда далеко еще было до компьютерного пришествия, великому старцу явилось откровение— страшная картина “нового господства, что-то вроде общественных насекомых”, и он предугадывал путь к нему: тайны, которые поведает мозг, употребит во вред людям кто-то неведомый, быть может, и не человек даже, но некто ему враждебный, Враг Рода Человеческого — сэр Чарлз не знал слова “ЭВМ”... Я взглянул окрест себя — вот Андрей Петрович Ершов, я знаю его не один год — новосибирец, один из самых сведущих людей в программировании; вот Гермоген Сергеевич Поспелов, тоже член-корреспондент Академии наук, москвич, председатель научного совета по проблеме “Искусственный интеллект”; вот Майкл Арбиб, американец, автор многих хорошо мне знакомых книг, только что переведенного у нас “Метафорического мозга” в том числе; вот Дмитрий Александрович Поспелов и Виктор Ильич Варшавский, первый — москвич, второй — ленинградец, оба давнишние мои знакомые, вот, наконец, Ричард Грегори, англичанин, которого я специально искал в Репино, чтобы познакомиться: Лурия, редактор русского перевода его книги “Глаз и мозг”, просил передать ему свои приветы... Неужели все они желают людям зла?1 Устроители совещания словно прочли мои мысли: на утро первого же дня они поставили доклад “Социальные последствия искусственного интеллекта”. Я слушал, и во мне крепла уверенность, что Чарлз Скотт Шеррингтон может спать спокойно: дух его, видимо, до сих пор является на Британских островах тем, кто дерзает коснуться тайн мозга. Профессор Дональд Мики — председатель группы ученых, которая несколько лет назад в местечке Фирбуш, под Эдинбургом, решила объединить свои усилия в решении проблем искусственного интеллекта. Фирбушская группа — инициатор встреч, подобных репинской, и Мики, таким образом, надлежало играть первую скрипку во всех предстоящих событиях. Видимо, не без умысла свой доклад он .посвятил не достигнутым успехам и даже не нерешенным задачам, но возможным последствиям этих решений и успехов. Мир, по его мнению, становится все более насыщенным различного рода компьютерными сетями, вполне сходными с нерв-ной системой. Мало того, сети эти обнаруживают все растущую тенденцию подключаться одна к другой. Если, например, в больницу попадет человек, сбитый на улице машиной, то медицинская ЭВМ, хранящая в своей памяти все данные, относящиеся к любому пациенту, автоматически свяжется с сетью полицейских компьютеров, с электронным архивом страховых компаний, запросит хранилища банковских сведений, чтобы выяснить платежеспособность... и так далее. В современном городе уже сейчас образующиеся в таком случае сети настолько сложны, что ни один человек, даже самый квалифицированный специалист-электронщик, не сможет разобраться в работе этого электронного сверхмозга. И тогда вырисовываются два сценария будущего. Первый: человек оказывается полностью зависимым от электронных машин, которые обеспечивают его комфорт, здоровье, интеллектуальные запросы, саму его жизнь, наконец, но сам он в этом случае превращается в некое комнатное животное, как выразился Минский, один из ведущих американских ученых в области вычислительных машин (сам Мики высказался и еще резче: “Человечество превратится в блоху, удобно устроившуюся на спине у собаки”). Второй сценарий связан с интенсивно ведущимися сейчас работами по прямой связи человеческого и машинного мозга. В частном случае это способность ЭВМ улавливать электрические сигналы живого мозга — разрабатывается, например, аппаратура, с помощью которой летчик сможет мысленно опрашивать приборы: какова в данный момент высота, давление, скорость полета, и все эти данные немедленно появятся перед ним на экране. Есть и менее экзотическая форма контакта — так называемые диалоговые системы, когда можно говорить с машиной на обычном языке, спрашивая ее о чем-то и получая ответ в письменной или даже устной форме. Когда — и если —труды в этом направлении увенчаются большим, чем теперь, успехом, человек окажется как бы включенным в эту ранее непостижимую для него сеть, но только мозг его тысячекратно усилит свою мощь — запас памяти, способность к арифметическим действиям, логику, неутомимость. И, следовательно, чем сложнее будет электронная нервная система, включившая в себя людской интеллект, тем больше возможностей даст она человеку понять себя и в целом, и в деталях. “Хэппи энд” — счастливый конец, — предусмотренный этим сценарием, настолько привлекателен, что есть смысл форсировать работы, которые ведут к нему кратчайшим путем. Так мыслят сегодня те, кого пытался “не допустить” Шеррингтон, проводя свои “многотрудные диверсии” (я цитирую Дмитрия Антоновича Сахарова). Заканчивая свою статью, когда все аргументы научного толка были исчерпаны, он дал излиться и поэтической части своей души — перевел сонет, написанный Чарлзом Шеррингтоном, который тоже отдал свое сердце не науке единой. Речь в нем идет о хитроумном Одиссее, велевшем, как известно, привязать себя к корабельной мачте, чтобы не поддаться пению сирен, в то время как спутники его залепили уши воском. Но — по мысли Шеррингтона — он до самой смерти мучился завистью к тем, кто пошел навстречу зову. “Старый миф — сказка, ложь, — заканчивается статья. — Никто ничего не знает. Может, Шеррингтон вовсе и не завидовал Павлову. Нам, простым матросам этого большого корабля, он пытался залепить уши воском — ничего из этой затеи не вышло. Наш корабль идет вперед. Но, быть может, стоит иной раз остановиться ради того, чтобы подумать?” Мы сидели на улице Россолимо, в Клинике нервных болезней, в кабинете Цветковой. Лурия и Засецкий за столом, рядом с ними известный специалист по структурной лингвистике, одно из самых громких имен в этом мире, мы все — поодаль, в углу — англичанка, пожилая дама, нейропсихолог из Кембриджа. — Брат отца, — повторял Засецкий с какой-то вымученной недоуменной улыбкой. — Брат отца, вот брат, вот отец, отец — чей? Нет, брат чей? Чей же он брат? Нет, не понимаю... Александр Романович переглянулся в гостем из другой науки, лингвистики, обменялся несколькими фразами по-английски с “Маргаритой Степановной”, гостьей из Англии, и вновь с карандашом в руке склонился над листом бумаги. Человечки, стрелочки, красноречивые значки, смысл которых Засецкому заведомо ясен, — и снова: — Брат отца — сколько тут людей? — спрашивает Лурия. — Вот отец, вот его брат, кто же брат отца? — Вот этот... он брат... двое их всего, — отвечает тот. “Для нас, усвоивших логические узоры языка и стоящих на плечах многовековой культуры, этот процесс расшифровки такой конструкции протекает свернуто, малозаметно, просто. А ведь еще в записях 15—16 века люди не писали “дети бояр”, а использовали гораздо более простую форму “бояре-дети”, и вместо “земли Прокопия” обязательно использовали более развернутую и неуклюжую форму “этого Прокопия — его земли”, давая этими вставками внешние ориентиры, помогающие обойти трудности такой сложной грамматической структуры... Нет, сложные обороты речи, которыми мы пользуемся, не замечая их сложности, — это коды, созданные многими столетиями, и мы легко применяем их только потому, что полностью овладели сложнейшей оркестровкой языка... Падежные окончания, предлоги и союзы — все эти сложнейшие коды языка стали тончайшими и надежными инструментами для мышления... А что нужно от самого человека, чтобы успешно пользоваться ими? В основном одно: умение хранить их в памяти и способность быстро и сразу, одновременно обозревать те отношения, в которые они ставят отдельные слова и вызываемые ими образы! Одновременно? Но именно эта возможность одновременного обозрения сложных систем (будь то пространственное расположение предметов или мысленное сопоставление элементов) была недоступна нашему герою”. Это — из книги Лурии. — ...Крест под кругом, — шепчет Засецкий, — круГОМ, ГОМ — значит падеж такой, под НИМ, значит. Круг, выходит, вверху, а крест, получается, внизу. Правильно? — Верно, Лева, — отвечает Лурия, — а теперь вот смотри, я рисую тут солнышко, а тут землю. Можешь сразу сказать, что внизу — крест или круг? — Внизу — крест, вот тут, на земле, — почти сразу говорит Засецкий. ...Внимательно, не отрываясь, следят за таким простым с виду экспериментом все, кто специально ради него приехал в клинику. “Известно, что язык использует очень сложные и неоднородные по своему составу системы кодов. В последнее время они успешно изучались структурной лингвистикой, в создание которой большой вклад внесли и советские ученые. Однако внутренние механизмы, на которые опираются эти коды, были труднодоступны для исследований. Например, часто нельзя было сказать, почему именно эта структура языкового кода труднее воспринимается, чем другая. Многое проясняется, если наблюдать больных с различными по локализации повреждениями мозга. Ведь в этих случаях из игры выводятся разные факторы или звенья, входящие в Состав кодов языка, и внутренние законы, по которым строятся эти коды, выступают яснее. Было обнаружено, какие коренные различия существуют между структурами, обеспечивающими плавное протекание речи, и теми, что формируют систему логических отношений, нейропсихология могла наглядно убедиться в том, что при одной группе локальных поражений мозга первые из них нарушаются, в то время, как вторые остаются сохранными; другие по локализации поражения мозга приводят к обратной картине. Это дает возможность ввести в лингвистику новые объективные методы исследования и расчленить те процессы, которые до сих пор казались недоступными анализу. “Патологическое часто открывает нам, разлагая и упрощая то, что заслонено от нас, слитое и усложненное, в физиологической норме”, — эти известные слова Павлова полностью справедливы и по отношению к нашим попыткам применить методы нейропсихологического анализа к изучению сложных языковых явлений”, Это —из статьи Лурии. Статьи, в известном смысле подводящей итог его ранним работам еще двадцатых годов, о которых он рассказывал коллегам-психологам, статьи, предваряющей книгу “Основные проблемы нейролингвистики”. Да не пройдет незамеченным в нашей суете сует рождение еще одной новой науки... ОО Из “Истории психологии в автобиографиях”: “...Работе над этими заметками предшествовала интересная переписка, которая объясняет их появление. К автору обратился проф. Эдвин Боринг, который предложил ему участвовать в подготовляемом томе “История психологии в автобиографиях”. Когда автор выразил сомнение в целесообразности появления одной только его автобиографии, в то время как советская наука имеет основания быть представленной, по крайней мере, несколькими исследователями, проф. Боринг предложил автору и названным им ученым прислать написанные ими материалы, оставив их на сохранение, до выхода в свет очередного тома. “Если вы доживёте до этого времени,— писал проф. Боринг, — присланные материалы войдут в следующий том “Истории психологии в автобиографиях”. Если вы умрете до того — они могут быть напечатаны в виде автонекролога”. Предложение проф. Боринга показалось мне не лишённым привлекательности. В самом деле, ретроспективный анализ пройденного пути всегда полезен. Поэтому автор отнесся к этому предложению со всей серьезностью и подготовил настоящий материал с тем, чтобы он мог быть использован в одной из двух предложенных проф. Борингом форм. ........................................................................ Жизнь, проведенная в научных исканиях, все-таки очень коротка, и каждому исследователю, прошедшему длинный путь, неизбежно приходится кончать ретроспективный обзор своей работы указанием на те перспективы, которые будут завершены уже без его участия. Но мы начали наши заметки с положения, что люди приходят и уходят, а реально сделанные работы остаются, и то, что сложилось с участием отдельного исследователя, продолжает дальше развиваться по своей собственной логике. Можно надеяться, что это будет иметь место и в нашем случае”. Строка отточий, которой я разорвал этот в высшей степени любопытный документ, заменяет шестьдесят с лишним страниц текста — страниц, давших мне долгожданную возможность опросить взгляд, пусть беглый, на полвека жизни в науке. Далеко не из чистого любопытства стремился я к этому — надо было связать концы многочисленных нитей, попавших мне в руки. Если не упустить ни одну из них, если суметь соткать холст из невесомой пряжи воспоминаний и размышлений, можно было надеяться увидеть на нем следы былых озарений и открытий, гибели старых представлений и рождения новых. “...Чудесный ткацкий станок, на котором миллионы сверкающих челноков ткут мимолетный узор, непрестанно меняющийся, но всегда полный значенья”. Чарлз Шеррингтон, великий — несмотря ни на что — физиолог, сказал эти слова о мозге. Но ведь их можно отнести и к жизни тех, кто постигает его тайны... “...Всегда полный значенья”. Самое поразительное слово здесь “всегда”: в любой момент—вчера, сегодня, завтра. И все, что делается, полно значения для некоей отдаленной цели, которая вначале неясна, туманна, но с каждым годом, с каждым десятилетием становится все более четкой. Оглядываясь на путь, пройденный в науке, и думая, очевидно, о новых дорогах в ней, Александр Романович Лурия заметил как-то, что это была “длинная серия исследований, которая продолжалась более чем в течение половины столетия не прерываясь, хотя и сопровождаясь рядом экскурсов в смежные проблемы, однако имеющих только одну цель и только одну перспективу”. Быть может, именно в этой удивительной однонаправленности и скрыт секрет успеха? Скорее всего, так и есть. Но ведь тут нет никакого объяснения, ибо сама эта однонаправленность все равно остается тем секретом за семью печатями, который называется человеческой личностью. В самом деле, можно поверить Александру Романовичу, что импульс, полученный от Выготского, действительно задал направление всех дальнейших работ — и именно потому все они естественным путем складывались вместе в единое целое. Есть, конечно, своя логика в том, чтобы, решив “разработать основные комплексы содержания психологии”, изучать последовательно восприятие, память, речь, письмо, счет... И тогда даже такие сугубо специальные работы, как проведенное совместно с Карлом Прибрамом и Евгенией Давыдовной Хомской исследование, в котором удалось выяснить роль лобных долей в программировании человеком его действий и движений,— и то можно считать развитием высказанных Выготским идей. Но как быть с теми юношескими идеями и планами, о которых Лурия рассказывал своим коллегам по обществу психологов? Ведь они родились задолго до встречи с Учителем и, тем не менее, идеи эти получили завершение, а планы—много десятилетий спустя! — реализовались: был все-таки разрешен конфликт между “номотетической” и “идеографической” психологией, волновавший студента факультета общественных наук Казанского университета. Конфликт этот с годами не ослаблялся, а, наоборот, усиливался. С развитием математических методов, и особенно с появлением быстродействующих счетно-решающих устройств классические формы медицинского познания постепенно оттеснялись на задний план: врачи нашего времени, располагающие целой батареей лабораторных средств, почти перестали обращать внимание на клиническую реальность, наблюдение больных часто стало замещаться десятками лабораторных анализов. Тот тип врача, который был характерен для прошлого, — тип Великого Наблюдателя и Мыслителя, — стал постепенно исчезать. Пропасть между теорией медицины, пытающейся описать человека как единое целое, и практикой, стремящейся как можно детальнее разобраться в данном конкретном заболевании, росла. Выход из этого положения Лурия увидел на том пути, который Маркс в свое время назвал “восхождением к конкретному”. Надо взять одного человека и, наблюдая его долгие годы с разных сторон, учитывая все его особенности, написать специальную книгу, посвященную только этому пациенту, в которой описание сомкнётся с объяснением. Лурия так именно и поступил — он написал “Маленькую книжку о большой памяти” и “Потерянный и возвращенный мир”. В каждой из них он имел дело только с одним человеком, пытаясь дать анализ его личности, исходя из какой-нибудь основной, решающей для него черты, чтобы затем вывести из нее все основные закономерности сознания этого человека и тем самым устранить конфликт между “идеографическим” описанием и “номотетическим” объяснением — конфликт, казавшийся непреодолимым пятьдесят лет назад. | Поскольку невозможно дать синтетическое описание личности, беря случайного человека и лишь поверхностно анализируя его отдельные поступки, были выбраны люди, безусловно, имеющий одну и ту же отличительную черту, которая была сверхразвита в одном случае и патологически разрушена в другом. Герой первой книги Соломон Вениаминович Шерешевский был человеком с исключительной, феноменальной памятью, — он мог, например, через десятки лет абсолютно точно воспроизвести страницы текста на незнакомом ему языке или колонки многозначных цифр, — и эта черта доминировала над всей его личностью. Секрет его удивительной памяти был в том, что он мыслил комплексными, так называемыми синестезическими, образами — принадлежал к немногочисленной группе людей, у которых, как, например, у композитора Скрябина, сохранилась “единая” чувствительность: любой звук рождает непосредственное переживание цвета и света и даже вкуса и прикосновения. Шерешевский мыслил такими сложными образами, и они — зрительные, слуховые, вкусовые, тактильные — сливались для него в одно целое: он “слышал” цвет и “видел” звук, он воспринимал на вкус слово и краску. Лурия вспоминает в своей книге, как они вместе с Шерешевским направлялись к лаборатории известного физиолога академика Л. А. Орбели: “Вы не забудете дороги? — спросил я Шерешевского, сам забыв, что он ничего не забывает. “Конечно нет, — ответил он, — разве я могу забыть этот зеленый забор — он такой соленый”. “У вас такой желтый и рассыпчатый голос”, — говорил он Выготскому. Он рассказал мне о случае, когда он хотел купить мороженое, но женщина, продававшая его, грубым голосом сказала: “Вы хотите шоколадного или нет?” — и ее голос рассыпался черными хлопьями, так что вкус мороженого был испорчен, и Шерешевский не смог даже попробовать его”. Но описание Шерешевского было бы недостаточным, если бы Лурия ограничился его памятью. Ведь главное во всем анализе заключалось в том, чтобы увидеть влияние этой удивительной памяти на мышление, поведение, на всю личность героя книги. Александр Романович видел как силу, так и слабость его интеллектуальной деятельности, вытекающие из особенностей его памяти. С одной стороны, Шерешевский мог произвольно повышать или понижать температуру кожи, менять ритм сердечных сокращений— делать многое из того, что доступно, например, йогам. Яркая образность его представлений играла здесь решающую роль: достаточно было ему представить, что в одной руке лежит кусок льда, а в другой — горячий предмет, и температура одной руки снижалась, а другой — поднималась. Стоило ему вообразить, что он быстро бежит, и сердечный ритм усиливался. Но эти яркие представления имели известные слабости: “Один раз мне пришлось выступать в суде, я приготовил речь. Я видел, судья сидит направо, а я стою налево. Но когда я вошел в суд, оказалось, что судья сидит слева, а я должен стоять с правой стороны, и я растерялся, и вся моя логика исчезла. И дело было проиграно”. Вся личность этого удивительного человека была детерминирована его фантастической памятью, и возникал вопрос: нельзя ли подойти к анализу структуры этой личности, анализируя ее, как вторичное проявление этого первичного фактора. Вот тут-то описание и сближалось с объяснением, преодолевались пределы описательной психологии и виделся путь к синтезу “идеографической” и “номотетической” науки. И те же слова следует отнести к другой книге, “Потеряннный и возвращенный мир”, хотя герой ее, Лев Александрович Засецкий, вовсе не выдающийся Мнемонист, а, наоборот, речь в книге идет о трагедии разрушенной памяти. ...Итак, ничто не пропало даром, даже те далекие юношеские планы. Какая-то внутренняя логика вела Александра Романовича Лурию всю его долгую научную жизнь. С другой стороны, он сам выбирал свои пути — ибо что могло заставить его, в то время уже профессора, преподающего в педагогическом институте, пойти учиться на медицинский факультет, окончив его, поступить простым ординатором в нейрохирургический институт, к Бурденко, проработать там много лет, защитить еще одну кандидатскую и еще одну докторскую диссертацию — на этот раз по медицине. Доктор Наук... Это привычное словосочетание начинает звучать для меня вдруг неожиданно свежо — доктор наук, врачеватель их, исцелитель от немощей и болезней, словно он лечит сухие науки; от замкнутости в себе, от разобщенности, от противопоставленности друг другу. Не реши Лурия пройти весь путь медика от ординаторских хлопот до профессорской мудрости, не соединись этот путь с другим таким же, пройденным им в психологии, едва ли смогли бы появиться на свет две удивительные его книги, и, видимо, конфликт между противоборствующими ветвями психологии так и не был бы разрешен. ...И все-таки, в чем же секрет успеха? Видимо, мне не дано найти ответ на этот вопрос. Но перебирая бумаги Александра Романовича я нашел гипотезу, которая состоит в том, что главный виновник тут не люди, а время, или точнее — Время, Мысль эта настолько в духе Лурии, что мне было бы просто обидно ее упустить: ОО Из архива профессора А. Р. Лурии: “Моя работа началась в первые годы Великой Революции, и именно это имело решающее влияние не только на мою дальнейшую деятельность, но и на деятельность моих друзей. Если сравнить историю жизни западных, например, американских психологов, которые публикуются в известной серии “История психологии в автобиографиях”, с моей собственной жизнью и работой, легко можно обнаружить огромные различия. Многие из западных психологов имели выдающиеся способности и большие достижения. Однако их жизнь текла в относительно спокойных, медленно меняющихся условиях. На них оказывали, влияние их отцы, их семейства, их непосредственное окружение. Начав свою работу как исследователи, они постепенно продолжали проводить свои наблюдения, иногда переходя из одного университета в другой. Порой им приходилось более последовательно разрабатывать новые области и испытывать радость установления чего-то нового или же страдать от того, что их работа не давала достаточных результатов. Но чего им решительно не хватало — это той стимулирующей атмосферы быстро развивающегося раскрепощенного общества, того рождаемого революцией чувства, что каждый является лишь частью большого, целого, что его народ делает необыкновенные исторические шаги, проходя в своем развитии столетия в очень короткое время. Атмосфера моих первых шагов в работе резко отличалась от этой малоподвижной атмосферы западных исследователей. Каждый из нас отчетливо ощущал, что он является только частью великого движения исключительной, уникальной исторической важности, что он должен найти свое место в этих крупнейших исторических событиях. Таков был дух первых лет революции, общая доля всего молодого поколения, людей, родившихся в первые годы этого столетия. По сути говоря, я не имел возможности формально закончить мое среднее образование: вместо полагающихся 8 лет я проучился только 6 лет в классической гимназии, и в 1918 году закончил мою школьную программу на краткосрочных курсах, как это и сделали многие мои товарищи. Я не мог вместе с тем получить и достаточного систематического университетского образования: старшее поколение дореволюционных профессоров было выбито из колеи новой ситуацией, а на гуманитарных факультетах эта растерянность старых профессоров была особенно выражена. Молодое поколение — студенты, было слишком занято тем, чтобы подвергнуть коренному пересмотру старые подходы и наметить собственные новые пути. Это оставляло только незначительное время для систематических учебных занятий, и новая форма активности — студенческие кружки, собрания, студенческие научные ассоциации, полные дискуссий по каждой проблеме, заняли наше основное время. Таким образом, я должен признаться, что, по сути говоря, не имел хорошего систематического научного образования. Однако, несмотря на этот факт, вся атмосфера первых лет революции оказала такое в высокой степени важное влияние на меня, как и на всю молодежь моего поколения, что нам удалось впоследствии кое-чего добиться. Замечательным было само время, в которое мы жили...”. Время, в котором живем мы, тоже по-своему замечательно. В этом богатом событиями 1977 году произошло еще одно, подведшее итог долгому, напряженному и героическому труду многих людей, и в первую очередь Александра Ивановича Мещерякова, безвременно умершего ученика Лурии. Состояло оно в том, что четверо слепоглухих студентов закончили психологический факультет МГУ. Четверо студентов, от рождения лишенных и слуха, и зрения... Алексей Николаевич Леонтьев, декан факультета, председательствуя на экзаменационной комиссии и подводя итог всем выступлениям, каждый раз оговаривался: называл дипломанта “диссертантом”. И в самом деле, обычные студенческие мерки как-то не годились для оценки этих работ. Большая аудитория психологического факультета была забита до отказа, жужжала кинокамера, вертелись кассеты магнитофонов, слепили глаза блицы фотокорреспондентов. Мы присутствовали при завершении давнишнего спора о том, что есть человеческая душа — или, говоря современным языком, психика Родимся ли мы с уже предопределенными характером, склонностями, задатками, талантом, темпераментом или же все это приходит к нам потом, когда мы приобщаемся к культуре, созданной людьми? Наследуются или приобретаются черты личности, душевный склад, нравстзенные идеалы? По мысли Выготского — главной, пожалуй, мысли всех его трудов, человек рождается не как Робинзон, он живет не изолированным существом, а сразу же включается в готовый общественный мир, ежесекундно имеет дело с предметами, сложившимися в общественной истории, и только это позволяет ему стать Человеком. Психика наша, таким образом, целиком социальна — вот вывод его “исторической” или “инструментальной” или “культурной” психологии. “Чтобы познать человеческую душу, надо выйти за пределы человеческого организма”, — этот завет своего учителя, Выготского, Лурия не только сделал основой всей своей научной жизни, но и передал ученикам — Александру Ивановичу Мещерякову среди них. Они вместе работали в Институте нейропсихологии, а затем в Институте дефектологии и хотя, защитив кандидатскую диссертацию по роли лобных долей мозга, Мещеряков стал потом работать в совсем иной области — с Иваном Афанасьевичем Соколянским, основателем советской тифлосурдопедагогики, науки об обучении слепоглухих, но он перенес в новое дало впитанную им философию психологических исследований. И лишь благодаря этому смог завершить труд, результаты которого мы теперь наблюдали. Я слушал, как один за другим защищали свои дипломные ра-боты четверо необычных студентов, аплодировал вместе с другими оценкам “отлично”, выставляемым экзаменационной комиссией, и думал о том, как все-таки удивительно целенаправленно сходятся к одной точке все, даже самые далекие “экскурсы в смежную проблему” в работах Лурии, как много ветвей выросло на том дереве, что было посажено в тридцатые годы Выготским, выращено Александром Романовичем и его учениками... Некоторые ветви на этом дереве вырастают в самых неожиданных местах. В том же семьдесят седьмом году в Москву из США приехал по приглашению Академии наук профессор Александр Маршак. Он работал во всех известных музеях Старого и Нового света, стараясь не пропустить ни одного предмета, оставшегося от каменного века, где могли бы оказаться рисунки или насечки. Эти линии, проведенные человеческой рукой десятки тысяч лет назад, он фотографировал под микроскопом и каждый раз задавал себе один и тот же вопрос: что побуждало нашего далекого предка тратить сотни часов, чтобы нанести на костяную пластинку узор из непонятных фигур, зачем он рисовал в свете факела на стенах пещер животных, птиц и зверей, растения и охотничьи снасти? Было ли это древней магией, отголоски которой мы чувствуем и поныне, подсчитывая, например, суммы цифр на троллейбусных билетах, или же рисунки на стенах и гравюры на кости и камне — не заклинания, а календари и инструкции — охотничьи, сельскохозяйственные, медицинские, гигиенические, —которые впоследствии превратились в заповеди, записанные на скрижалях? Казалось бы, вопросы сугубо риторические — ответить на них современная наука все равно не может. Но Маршак попытался найти для этого необычные пути. Не всегда он был профессором Гарвардского университета — двадцать с лишним лет проработал он журналистом в разных странах Европы и Азии. Уменье профессионально владеть фотокамерой, мысль применить ультрафиолет и инфракрасный свет позволили ему установить, что рисунки и зарубки делались не сразу, а в течение длительного времени, иногда — годами: видимо, наш далекий предок что-то записывал для памяти. Но что? Как расшифровать эти письмена? Годы, отданные журналистике, позволили Маршаку быстро найти в море научных публикаций нужные ему — он обратился К работам Лурии. ...Мы беседовали в Институте археологии и я специально задал Маршаку вопрос: чем помог ему нейропсихологический подход. — Тот метод, который профессор Лурия использует для изучения мозга, оказался для меня неоценимой находкой, — сказал он. — В сущности, только изучив его работы я смог грамотно поставить вопрос своих собственных исследований. Нейропсихология имеет дело с проблемами языка, памяти, письма, счета и при этом соотносит любое проявление интеллектуальной жизни человека с работой тех или иных участков мозга. Перед нами — результат деятельности мозга, а вопрос, который задается: все ли в этом мозге в порядке, и если нет, то что именно нарушено. Передо мной точно так же лежали продукты деятельности мозга — рисунки, насечки, орнаменты, и я должен был выяснить, до какой степени развит был этот мозг, что он умел, какие знания хранились в нем. И тут уже не имело значения, что в одном случае исследовался мозг больного, который сидит перед врачом, а в другом — кроманьонца, умершего 25 000 лет назад, важно лишь, чтобы существовала надежная и точная методика. Я использовал уроки Лурии и пришел к выводу, что человек каменного века обладал мозгом совершенно таким же, как мы сегодня — иначе он не сумел бы создать столь развитую культуру, ему бы не хватило многих участков, обеспечивающих “работу” языка, способности к символическому мышлению, а также к таким точным и тонким движениям руки. Интеллектуальный мир тех далеких времен был столь же непрост, как и наш нынешний: в экономическом отношении кроманьонец, разумеется, влачил жалкое существование, но в биологическом, как мыслящее существо, он не уступал нам с вами... Отто Николаевич Бадер, крупнейший наш специалист по палеолиту, внимательно выслушал перевод. “Я уверен, что профессор Маршак делает очень интересное дело, — сказал он. — У меня такое впечатление, что открывается новая страница в изучении и понимании палеолитического искусства”. Профессор Бадер продолжал, но чисто археологические проблемы работы Маршака не могли увлечь мое сердце: я понимал, что прямо на моих глазах и без того мощно разросшееся нейропсихологическое дерево дает еще один отросток — рождается новая наука, способная исследовать сознание людей, десятки тысяч лет назад покинувших землю. А как ее назовут — нейроархеология или палеонейропсихология — это уже не имело значения. ---- Впервые шел я вдоль знакомых коридоров не в профессорской свите — один, никуда не спеша, ни с кем не заговаривая. Это был мой собственный обход: я навещал воспоминания... Те же бесчисленные повороты, маленькие палаты, бесшумные сестры. Нет, просто я уже не слышал их. Словно опытный монтажер в черепной коробке свел на одну пленку мои и чужие мысли, прочитанные страницы, услышанные споры — в голове звучал одному мне слышимый голос, и я вел с ним беззвучный разговор: — ...Ну вот, пора и кончать, — сказал я с грустью, но и с облегчением. — То есть как это?! — немедленно откликнулся он. —- А прозрачные намеки, что будет, наконец, рассказано в деталях про лечение Засецкого? Как, когда, где и кто сумел возвратить ему потерянный мир? — Когда — известно: начиная с 1943 года и по сегодняшний день. Где — сначала в госпитале в Кисигаче на Урале, потом — в Москве, вот здесь, в Институте нейрохирургии имени Бурденко, а теперь еще и в Клинике нервных болезней мединститута. Кто — Александр Романович Лурия и его сотрудники. А как, в деталях — так ли уж важно вам знать? Ведь вы не собираетесь стать специалистом в этой области? А общие идеи я изложил. К тому же с каждым годом встречаются все новые неожиданности. Этим летом я был в Свистухе, под Москвой, у Лурии на даче. В отпуске он работал над теми тетрадями, что прислал Засецкий с последней почтой из Кимовска. И вскрылась удивительная вещь—Лев Александрович сам нашел для себя способ лечения. За год он успел написать более тысячи страниц — благодаря тому, что стал писать ритмизированной прозой, иногда даже частично рифмуя свои воспоминания. Мелодика этих стихов в прозе ведет руку, и так, “с ходу”, он вспоминает вдруг забытые слова, звучащие в его голове ритмы будят поврежденную память. Послушайте: “И снова в бессилии сильном, в упадке душа. Опять меня грусть пожирает: не хватит... не хватит ли жить мне на свете?.. Не знаю, быть может, не стоит. Но более сильные мысли твердят мне иное — они мне твердят: “Подожди, ведь время теперь не такое — за зря умирать, по-пустому, быть может, вернешься ты в строй. И верно, я часто мечтаю стать прежним — таким, каким был до раненья... Мечты я теперь полюбил: от горечи всякой, любой, уводят они меня дальше, в мечтах обретаю покой”. Вслушайтесь — это не Лукреций Кар, это больной Засецкий пишет историю своей болезни: ОО “На исследованиях поля зрения у доцента Снякина Он аппарат ко мне поближе подвел к глазам, и я глядел и что-то видел и не видел... И вместо красного кружочка я вижу маленький серпочек с бесцветным светом. Чаще серп я вовсе — вовсе! — и не вижу, а просто льется где-то свет. В том месте, где нет цвета в свете — вы понимаете меня?—причина этого бесцветья чуть-чуть как будто бы ясна: там много — множество! — скотомов, в пространстве левом все как раз, в том самом точно поле зренья, где раньше видел все мой глаз!”. ...Теперь, надеюсь, вы удовлетворены моим ответом?! — спросил я своего дотошного собеседника. — И все-таки, пожалуй, не совсем, — не сдавался он. — Все это столь удивительно, что хотелось бы знать, как лечат больных, у которых поражен тот или иной блок — последовательно, пооперационно, что сначала, что потом... — Спасибо! Ничего более приятного вы не могли мне сказать, Значит, я не даром рассказывал вам о прочитанных книгах, об их авторах и героях и о том, что с этим чтением было для меня связано. Выходит, задача моя выполнена — вам захотелось прочесть их самому, найти ответы на свои вопросы. Позвольте на прощание зачитать вам еще одну цитату. Послушайте: “Может быть кто-нибудь из знатоков больших и серьезных мыслей поймет мое ранение и болезнь, разберется, что происходит в голове, в памяти, в организме...”. Что если Засецкий адресуется именно к вам, и вам суждено стать таким “знатоком больших и серьезных мыслей”? Кстати, кто вы? — А я думал, что при вашей-то проницательности можно бы и догадаться... Читатель! ...Этот разговор мне пригрезился, когда я шел прощальным маршрутом по бесконечным коридорам Института имени Бурденко. Простите меня, длинные бурденковские коридоры. Уйдите из ночных кошмаров, избавьте от страшных пророчеств, да минует чаша сия и близких моих, и друзей, и меня самого. Отпустите мне грехи, в кои впал я, идучи вдоль вас — и грех невежества, и любопытства, и скоропалительных суждений, и малости разумения, отпустите мне их, как и я не виню сейчас ни замотанность моей суетной жизни, ни бессистемность своего скудного образования, ни даже те непреодолимые обстоятельства, что не позволяют смертному начать жизнь сначала. Не виню, хотя, не будь их, я проложил бы свою жизненную стезю по-иному: я шел бы вдоль вас не робкой походкой гостя, но твердой поступью хозяина. Нет, не первый и, увы, не последний раз иду я больничными коридорами, а лишь тут догнали меня запоздалые сожаления и быть может, преждевременные страхи... Как нигде призрачна здесь зыбкая граница, отделяющая здорового от больного. Страшна кардиология своей вялой неподвижностью; пугают, пусть они и целительны, дыбы травмотологии; щемит в груди от потаенной обреченности онкологических палат, но тут все хотя бы наглядно, окончательно: инфаркт, инсульт, опухоль, взрыв, авария, сужение сосудов, старость, наконец — отрезали руку, ногу, человека не стало—все мы смертны. Но никогда не уложится в голове, что его может не стать намного раньше: стрясется вдруг что-то незаметное, нарушится какая-то ничтожная, невидимая пружинка—и нет для тебя больше суеты, нервотрепки, забот, неудач и срывов, и ты лежишь в одной из этих палат и уже не различаешь нотки горестного сочувствия в обращенных к тебе словах врачей. Живой, С руками и ногами, шутишь, сетуешь, что тебя что-то уж слишком долго здесь держат, а твои посетители яростно улыбаются и нащупывают на всякий случай в кармане носовой платок. И лишь два-три самых близких человека еще верят в чудо, еще заглядывают с тщетной надеждой в глаза Александру Романовичу. Но ведь и он не бог... Простите мне, бурденковские коридоры, мой самый тяжкий грех — неверие в человеческие силы. _________________________ Эта книга была написана и сдана в издательство, и я, в ожидании редакторского суда, уехал в отпуск — и вдруг вчера, развернув газету, не поверил своим глазам. Я еще успел в Москву, хотя спешить было уже некуда... Прощайте, Александр Романович. Наверное, когда-нибудь я свыкнусь с мыслью, что вас нет нигде — ни дома, ни в университете, ни в клинике, ни в институте, что с вами нельзя поговорить даже по телефону, но сейчас не могу что-либо исправлять в этих страницах: прошедшее время не дается мне. 18 августа 1977 г.
|